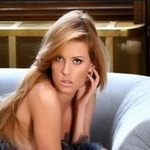Исповедь старого графа Часть 1
[responsivevoice voice=»Russian Female» buttontext=»Слушать рассказ онлайн»]Исповедь старого графа. Часть 1
Категории:
Традиционно
Подростки
Группа
Фантазии
Эротическая сказка
Классика
Автор просит прощения у читателей за то, что первая сексуальная сцена будет только в конце первой части. Зато во второй части секс будет с самого начала 🙂 Это не значит, что надо читать только вторую часть: ничего не будет понятно.
Даже про секс 🙂
***
…К вечеру мы добрались к Истерн-Виллидж. Это была крохотная деревушка со старой церковью, почерневшей от времени, и огромными вязами — ее ровесниками. Отсюда уже было рукой подать до Трэнтон-холла, графского поместья. Но мы были так голодны, что решили перекусить в трактире.
Трактир «У трех грачей» был бы похож на все трактиры Англии — застиранные скатерти на столах, хриплый радиоприемник, портрет короля Георга, — если бы не физиономия девочки, встретившей нас. Нечасто встретишь такой цветок юга в этих краях, черт подери! Черные смышленые глазки, густые ресницы, волосы цвета воронова крыла, губки, алые, как кораллы…
Увидев за прилавком ее мать, женщину лет тридцати, похожую на Шехеразаду, мы переглянулись. Такую знойную, избыточную красоту я видел только в кино.
— Наверно, в этих краях укоренились цыгане, — сказал Пол, уплетая цыпленка.
— Или здешние сквайры привезли богатые трофеи из Индии, — хмыкнул Гарри.
Я возразил ему. Индийских женщин я видел не раз; это совсем не тот тип. Да и цыганки выглядели иначе…
— Смотри, — Гарри толкнул меня. В трактир входила шумная толпа. Это была самая странная семья, которую я видел в своей жизни: рыжебородый сквайр, которого можно было бы выставить в музее под табличкой «Типичный болотный житель»; с ним — его жена, вторая Шехеразада, такая же знойная, как и ее соплеменница за прилавком, — и целая стайка детей: рыжих и брюнетов, веснушчатых и черноглазых — всех вперемешку.
Семья уселась обедать. Трактирщица говорила с ними и с нами низким, бархатным голосом. В ее произношении чувствовался акцент. Переглянувшись с Шехеразадой №2, она сказала ей что-то на незнакомом языке.
Мы были заинтригованы. Всю дорогу к Крэнтон-Холлу мы обсуждали Шехеразад из Истерн-Виллидж. Только когда на горизонте показался графский дом, наш разговор переключился на старого графа. О нем ходили странные слухи, один нелепее другого, — что располагало нас к нему, ибо мы знали: лучшие представители британской нации — чудаки.
Поприветствовав графа, мы были представлены графине Трэнтон — третьей Шехеразаде за день, пожалуй, самой нежной и ослепительной из всех трех. Тут же граф познакомил нас с юным поколением рода Трэнтон — встретив их на улице, я поклялся бы, что вижу юных бедуинов, переодетых в пиджаки и брюки. Да и сам граф был похож на седого шейха; впрочем, в нем была видна настоящая английская порода, которую не спутаешь ни с чем.
Он оказался остроумнейшим собеседником. Леди Трэнтон не уступала ему — легкий акцент только добавлял обаяния ее нежной, умной, чуть ироничной речи. Когда она, извинившись, ушла укладывать детей (она сказала, что всегда делает это сама) — мы, наконец, пристали к графу с расспросами.
— Это особая история… До вас, конечно же, дошли слухи обо мне? Не стоит смущаться, джентльмены, ведь мы — люди без предрассудков. Что ж… Мы знакомы несколько часов, но я вижу в вас тех, кто способен понять меня. Мне шестьдесят два, а старость болтлива. То, что я хочу рассказать вам, я не смогу рассказать больше никому.
Заинтригованные, мы смотрели на графа. А он, помолчав, продолжал:
— Гоар, наверное, возражала бы против этого рассказа. Но… так и быть. Уговор есть уговор. Пройдемте в мой кабинет, джентльмены.
Мы прошли вслед за хозяином на второй этаж. Расположив нас в уютных креслах у камина, он начал свой рассказ.
***
— В ту пору я был пресыщенным бездельником. О моей юности не скажу ничего — любой сплетник расскажет вам о ней лучше, чем я. К сорока двум годам я был без семьи, без потомства, без цели в жизни, — но зато с репутацией первого шалопая во всем графстве (да так оно и было, пожалуй).
Все это надоело мне до чертиков, и я, желая хоть как-то разогнать тоску, предался наименее порочной из моих страстей: увлечением Ближним Востоком и морскими скитаниями. У меня была великолепная яхта, побывавшая во всех портах Средиземного моря.
Шел 1909 год. Я плыл из Ливана в Грецию, но вынужден был зайти в Смирну, по-турецки Измир, за углем. Я знал, что вся Турция охвачена волнениями, и преследования армян достигли небывалых пределов, но выхода не было.
В Измире меня понесло бродить по городу. Там шла настоящая война. Я видел десятки раненых и умирающих, но не мог ничем помочь им: городом владела разъяренная толпа.
Я всегда одеваюсь в костюмы тех мест, куда схожу; к тому же я похож на средиземноморский тип (благо моя прабабка была гречанкой) и прекрасно говорю по-арабски, по-турецки и по-гречески. Восточные и древние языки — моя слабость с детства, и если бы… Впрочем, ладно. Одетый в костюм обычного, ничем не примечательного турка, я бродил по городу. Что-то удерживало меня от возвращения, — будто бы я знал, что могу кому-то пригодиться в этом аду.
Зайдя на одну из улиц, я увидел здание с выбитой дверью. Не знаю, что побудило меня войти туда… Внутри я увидел, как компания молодчиков выламывает боковую дверь.
— Что там? Армянское золото? — спросил я.
— Ха-ха-ха! Именно «золото», именно! — отозвались они. — Это школа для девочек, и там сидят армяночки, вкусные, как инжир. Сидят и не отпирают нам, таким нежным кавалерам!..
Вот как, подумал я — и вышел наружу. На улице никого не было. Окинув взглядом школу, я увидел, что по старой стене можно без труда добраться к выбитому окну на втором этаже. За стеной я отметил нечто вроде сарая, в котором, если что, можно было бы укрыться.
Забравшись по стене, я перекинул ногу через окно — и оказался в зале с партами. Кроме меня, в нем был кто-то еще.
Это была кучка девочек, точнее, девушек-подростков, сбившихся в уголок. В руках у них были ножи. Их лица я запомнил на всю жизнь. Юные, нежные — и обреченные, готовые погибнуть, но не сдаться.
Внизу громыхала дверь. Черт, надо бы поторопиться, подумал я, — и обратился к девочкам по-турецки:
— Скорей бежим отсюда! Не бойтесь меня!
Девочки только сильней вжались в уголок и выпятили вперед ножи. Тогда я вспомнил то немногое, что знал по-армянски:
— Я друг! Не бойтесь! Я не злой. Я друг!..
Лица девочек изменились. Одна из них стала быстро и громко говорить мне что-то по-армянски. Половины я не понимал; кажется, она спрашивала, армянин ли я, и почему они должны мне верить. Потеряв терпение, я крикнул по-турецки:
— Тише, не кричите! Дуры набитые! Быстро в окно! Сейчас выломают дверь! — Я подскочил к ним и схватил первую попавшуюся из них. Руку мне полоснул нож, но я тащил упирающуюся девочку к окну. Крикнул: — Спускайся! — щупая рану. Вену не задело, можно считать — царапина. — Спускайся, внизу никого нет! Быстро!
— Я не смогу…
— Сможешь! А ну-ка… — я окинул взглядом комнату, увидел большую занавеску, прыгнул на нее, сдернул вместе с карнизом, оторвал от него, смотал в жгут и перекинул через окно:
— Держись! Только не отпускай, пока не спустишься! Я держу! Крепко! Я сильный! Давай! И беги домой, пока никого нет!
— Я не могу домой… Дома… Дома…
Она не могла говорить.
— Хорошо. — Я понял ее, и мне стало дурно. — Спустишься — и прячься в сарай. Вон в тот. Ясно? Ну, вперед! Пошла!
Девочка глянула на меня своими бездонными глазами, перелезла через окно и спустилась вниз. Она была легкой, как пушинка. Таким же образом спустились остальные — их оказалось семеро. Семь юных армяночек, красивых, как газели, перепуганных, выплакавших все слезы…
Когда спускалась последняя, я сказал ей:
— Передашь другим, чтобы сидели и не высовывались. И сама не высовывайся. Ждите меня, я скоро вернусь к вам. Главное — не высовывайтесь!
Спустив ее, я нащупал рукоятку маузера и побежал к громыхавшей двери. Она была готова поддаться.
— Подождите! Подождите! Я открою вам! Подождите! — крикнул я. Грохот прекратился, и я отодвинул засов.
В дверь ворвалась толпа диких обезьян, недавно бывших людьми:
— Где они? Где?
— Они обманули нас! Они сбежали! — кричал я, изображая крайнее возмущение. — Здесь есть другой ход! Ищите их! — И побежал наобум по коридору, надеясь выйти к предполагаемому ходу.
Обезьяны побежали за мной. Другой ход действительно был, и вывел он к запертой двери.
— Они еще и заперли за собой!.. Ломаем! Ломаем! Они не могли далеко убежать! — кричал я. Молодчики занялись дверью, а я потихоньку отошел в сторонку…
На улице, слава Богу, никого не было. Я подбежал к сараю:
— Все живы? Не высовывайтесь! Ждите меня, я скоро вернусь!
И побежал к школе. Оттуда уже выбегали молодчики, выбившие дверь. Приняв азартный вид, я крикнул:
— Там их нет! — и показал в сторону сарая. — Я добежал до конца улицы! Они там! Там! — орал я, показывая в противоположную сторону. Обезьяны побежали, куда я показал.
Убедившись, что все скрылись за поворотом, я снова подошел к сараю.
Девочки глядели на меня своими черными глазами. С ними надо было что-то делать.
— Где в городе вы могли бы укрыться? — спросил я. — Может быть, у кого-то дома?
Девочки переглянулись — и вдруг поднялся отчаянный плач.
— Нет у нас больше дома, нет ничего! Нет ни отцов, ни мам, ни сестер!.. — кричала мне одна из них, а я говорил им: «тише, тише, вас же услышат!..» Я стал закрывать им рты, и девочки умолкли, давясь беззвучным плачем. Сердце мое не выдержало: я обнял одну, потом другую, третью — сколько смог; и тут они с плачем ткнулись в меня, прижались, обступили все, обхватили, выплакивая в меня свое горе…
Наверно, этот момент все и решил. Я обнимал, гладил, успокаивал девочек, шептал им всякие глупости, пытаясь не раскиснуть и придумать, как же быть. Улица наводнилась людьми, и выходить до темноты было нельзя; да и ночью, думал я, наверняка будут бегать головорезы с факелами…
Обдумав все как следует, я встал и сказал девочкам:
— Мне нужно снова выйти. Я буду рядом. Сидите тихо, чтобы ни одна живая душа не засекла вас.
Дождавшись, когда улица опустеет, я выскочил из сарая. Пройдя несколько кварталов, я подозвал к себе портового босяка.
— Эй! Спроси в порту яхту «Леди Макбет», с английским флагом, и отнеси туда эту записку. Отдай ее боцману Грэггу — получишь от него золотой. Он даст тебе другую записку, ты принесешь ее мне вот сюда, вот на это место, и получишь два золотых. Понял? Повтори!.. Все верно. Пошел!
Босяк помчался прочь, а я стал покупать еду для девочек. В записке я писал Грэггу, чтобы он явился к одиннадцати вечера в сарай, одевшись турком, принес театрального грима, моток веревки и четыре пистолета, а также просил выдать босяку золотой и подтвердить получение. План дороги прилагался. Вскоре босяк вернулся, принес записку от Грэгга — «Все понял. Грэгг» — получил свою награду, и я пошел к сараю.
Полдня прошло в оплакиваниях погибших родителей, в судорожных объятиях, с которыми жались ко мне семеро дрожащих тел, и в покаянных рыданиях Гоар, девочки, полоснувшей меня ножом. Перевязав мне рану, она хотела порезать себе руку в знак раскаяния, но я успел выхватить у нее нож. Когда явился Грэгг, удивленный и перепуганный, я объяснил свой план — сначала девочкам, потом Грэггу, не знавшему по-турецки.
Я густо вымазал каждое заплаканное личико черным гримом, намалевал девочкам алые клоунские губы — и нежные газели превратились в уродливых пугал. Выстроив их гуськом, я обмотал им руки веревкой — некрепко, для виду, чтобы они могли в любой момент освободиться, — передний конец дал Грэггу, задний взял сам. Четырем девочкам я сунул в карманы по пистолету, наказав палить только по моей команде. Выбежав на улицу, я осмотрелся — вроде никого, — и мы вывели кавалькаду «пленниц».
Как только нам встречались люди, я гнусно хохотал, обзывал девочек армянскими свиньями и картинно пинал их. Обман удался: турки тыкали в них пальцами, никто ничего не заподозрил, и мы завели «пленниц» на яхту.
Когда мы отчалили от мола и отдали якорь в тридцати футах от него — я понял, наконец, что девочки спасены. Уффф!..
Теперь осталась самая малость: придумать, что с ними делать.
Я отправил на шлюпке двух матросов закупать для них продукты, а сам пошел в кают-компанию, где сидели обессиленные, перепуганные армянские красавицы — с угольно-черными лицами и кровавыми улыбками.
***
Их звали Гоар, Нарэ, Шушик, Заруи, Гаянэ, Каринэ и снова Гаянэ. Одну Гаянэ, которая все время напевала, я прозвал Гаянэ-Пташкой, а другую, у которой волосы вились мелкими спиральками – Гаянэ-Кудряшкой. Они были очень красивы… впрочем, об их красоте потом. Очень красивы — и очень похожи друг на друга. Так, во всяком случае, мне казалось вначале. Смыв с них грим, я написал им тушью их имена на каждом лбу. Красиво написал, с завитушками — им понравилось. Несколько дней надписи продержались, а потом, когда смылись окончательно, я уже помнил, как зовут каждую девочку.
Первые дни они томились в скорбном оцепенении. Ничего не ели, не говорили, — и только я был для них отдушиной.
Как только я заходил к ним — почти всегда они бросались ко мне, тыкались мне в грудь и плакали. Они как-то сразу, мгновенно прониклись доверием ко мне, перестали хоть сколько-нибудь меня стесняться, ласкались ко мне, сами требовали ласк… Я стал для них родным существом, единственным во всем белом свете.
Мои планы относительно них быстро менялись. Вначале я думал высадить их в Греции, предварительно найдя для них работу; потом как-то само собой уяснилось, что я везу их в Англию, где буду лично заниматься их судьбой.
Прошло несколько дней… Зацелованный, утопленный в девичьем доверии, как в сиропе, я уже знал, что не смогу расстаться с ними. Мои недолгие колебания завершились, наконец, радикальным решением: девочки будут жить у меня. Я оформлю опекунство, дам им наилучшее образование, выдам замуж за хороших людей… Родственников у меня почти не было, на общественное мнение я плевал с Биг Бэна, репутация моя и так была вконец испорчена — терять было нечего. И на вопросы девочек — «куда мы плывем?» — я уверенно отвечал им, что мы плывем в страну Англию, где они будут жить и учиться в большом богатом доме. Я объяснил им, что на родине им не выжить; да они и сами это понимали.
Я очень старался согреть их, приободрить, развеселить… Они безудержно ласкались ко мне, целовали меня все чаще, все нежней, — и я умирал от сладкого зуда, дравшего меня изнутри, потому что девочки мои были уже не совсем девочками…
И скоро, скоро, к концу первой недели, они уже резвились и смеялись, а еще пару дней спустя — носились по яхте, возились, боролись, хулиганили и напевали. Юность и южный темперамент взяли свое.
Почти все время я проводил с ними. Они лезли ко мне, как маленькие дети, толкались и ссорились за место возле меня. Я боялся влюблений и ревности, — но все они одинаково обожали меня, и конфликтов не было. А я…
Мне было нелегко: каждый день меня трогали, гладили, целовали, прижимались ко мне своими телами девушки самой необыкновенной прелести, какую только можно себе представить. Вы сами видели их; но это сейчас, — а тогда, двадцать лет назад… Нет никаких слов, чтобы описать эти глаза, в которых тонешь, как в сладком сне, эти личики, в которых все аккуратно, тонко, трепетно, как в нежнейших цветах, — с коралловыми губками, бровями, будто нарисованными тушью, пушистыми ресничками-тычинками…
Невозможно описать этот ток юности, наполнявший девичьи тела… Они были детьми — по сути; но на юге женщины зреют рано, и тела у моих девочек были зрелыми настолько, насколько не созревают у англичанок иногда и к двадцати годам. Да и в личиках детская живость уже смешивалась пополам с женской тайной, от которой дерет кровь сладкими когтями, — и эта смесь била наповал…
Я сразу постановил себе блюсти строжайшую честность и чистоту с ними, и команде объявил, что всякий соблазнивший (или хотя бы ухаживающий) будет с позором изгнан и предварительно избит лично мной, — но… мне было нелегко. Все время, которое я проводил с девочками, окаянный мой отросток торчал каменным колом, кричащим от желания; каждая ласка, каждый поцелуй, каждое ощущение тугого тела сквозь одежду… да что там — каждый доверчивый взгляд отзывался сладкой вспышкой в теле. Ежедневный онанизм стал необходимостью для меня. Излив сладкий огонь, накопленный в девичьих каютах, я избавлялся от него на каких-нибудь полтора часа.
Так было неделю подряд, и я привык. Мне казалось, что баланс установился, и я обуздал свою похоть. И надо же! — именно в тот момент, когда мне казалось, что все вошло в правильную колею, — именно тогда…
Уже и команда привыкла к девочкам; уже и уверенность, что я набрал себе гарем (увы, раньше на борту «Леди Макбет» бывали дамы совсем иного рода), испарилась окончательно, и члены экипажа — боцман, штурман, матросы, кок — щеголяли остроумием перед нежными армяночками, пунцовыми от смеха (я все добросовестно переводил)… Чисто вымытые, распакованные из хиджабов, переодетые в европейские платья, закупленные в Константинополе, причесанные лично мной, девочки были так восхитительны, что на яхте воцарилась полустыдливая атмосфера всеобщего умиления. Девочки старались «отслужить» свое плаванье, как могли: убирали и мыли яхту, орудовали на кухне, удивляя нас изысками армянской и турецкой кухни…
И именно тогда случился казус, который и привел к тому, что было потом.
***
Это было уже под конец нашего плаванья, когда мы шли вдоль берегов Франции. Однажды, когда я сидел у девочек, Гаянэ-Кудряшка и Каринэ расшалились, и Каринэ решила спастись от Гаянэ у меня на коленях.
Я уже давно понял, что причислен девочками к тому же рангу родства, что и родители и родные братья, перед которыми стыдно разве только обнажаться и справлять нужду, а все остальное совершенно нормально и допустимо. Хохочащая Каринэ уткнулась мне в шею, бодая меня тугими грудками, и крепко обхватила меня, а Гаянэ пыталась стащить ее прочь. И у той, и у другой нашлись союзники; образовалась девичья куча-мала, под которой был погребен я.
Я задыхался от смеха вместе со всеми, но… Разгоряченные тела, висящие на мне, вдруг одурманили меня, и я почувствовал, что мои яйца набухают, как весенняя почка. В голове у меня помутилось. Я понял: еще немного, и я не выдержу — схвачу ближайшую фигурку, повалю при всех, задеру ей юбку…
Сбросив опешивших девочек, я вскочил и выбежал прочь. Ворвавшись к себе в каюту, я защелкнул замок, лихорадочно расстегнул брюки, добыл свой отросток, набухший медовой сладостью…
Дверь дергали девочки. Я не отвечал, лежа на кушетке; потом крикнул:
— Девочки, мне что-то нехорошо. Я полежу…
Когда я вернулся к ним, меня засыпали расспросами. Я отнекивался и отшучивался. Кажется, никто ничего не понял. Кроме… Интересно, почему у Гоар такой взгляд?
На следующий день все повторилось. Перед визитом к девочкам я уделил внимание себе, и мои яйца болтались бесчувственно, как у старика. Но — стоило нежным рукам обвить мою шею, и горячим губам прикоснуться ко мне… к тому же утро было чудесным, девочки расшалились, как никогда, и решили затискать меня до полоумия. Они повалили меня на кровать, залезли на меня, щипали, щекотали, захлебываясь смехом… а я не мог призвать их к порядку, помня, какое горе они пережили. Семь горячих, гибких тел терлись об меня, дразня чертей, живущих во мне — и вот уже отросток торчал пикой, готовый прорвать брюки…
— Ой! А что это торчит? — Шушик наткнулась рукой на него, вогнав в меня разряд сладкого тока. — Что у тебя тут спрятано? — Она ощупывала меня, а я корчился от ее прикосновений.
— Шушик! Оставь сейчас же! Ну что же ты… — крикнула Гоар, бросилась к ней и стала оттаскивать ее от меня. Шушик упиралась, рука ее мяла мне брюки — и вот…
— ААААААХ! — из меня вырвался звериный хрип. В яйцах заплясали тысячи цветных радуг, и я скорчился червем, умирая от блаженства и от близости гибких тел.
— Ой, тебе больно? Прости, пожалуйста, — запричитала Шушик. Я не мог ей ответить — и только прижимал к себе удивленную Гаянэ, уткнувшись в ее кудряшки. Ни одна безумная ночь моей юности не дарила мне такого фейерверка. И такого стыда…
— Что с тобой? — Девочки озабоченно лезли ко мне. — Тебе плохо?
Я взглянул на Гоар, и от ее понимающего взгляда мне стало вконец не по себе. Девочки озадаченно молчали. Впервые за все время между нами повисла тень неловкости.
— Ничего, Шушик. Все в порядке. Девочки, мне… Мне нужно заняться кое-чем… кое-какими делами, — выдавил я из себя и встал, стараясь не глядеть им в лица. В ушах у меня звенело.
За обедом неловкость не исчезла. Улыбки, шутки, смех почти не звучали за столом, и команда удивленно присматривалась ко мне. Кое-как дожевав свою порцию, я встал, извинился и ушел к себе. «До завтра все уляжется», думал я, «забудется, рассосется…»
Перед сном я проходил мимо девичьих кают и хотел пожелать девочкам, как всегда, спокойной ночи, — но дверь неожиданно оказалась заперта.
«Что такое? Они никогда не запирались…» До меня донеслись голоса, тревожные и возбужденные. Я узнал голос Гоар… Она говорила по-армянски; я почти ничего не разбирал, а то, что разбирал, не понимал.
С тяжелой душой я пошел к себе, думая о том, что не смогу заснуть. Раздевшись, я хотел погасить свет, — но вдруг раздался стук в дверь.
— Войдите!
Дверь открылась, и вошли четыре фигуры. Это были Гоар, Заруи, Нарэ и Гаянэ-Пташка. Они были в халатах, выданных им для сна.
— Девочки?.. Что… — хотел было спросить я — и осекся, увидев странную торжественность их лиц.
Гоар выступила вперед. Голос ее дрожал:
— Ты… Ты столько сделал для нас… Ты — наш спаситель. Если бы не ты, мы бы умерли или убили бы себя, не выдержав бесчестья. Ты…
— Гоар, ну зачем ты все это говоришь? — перебил я ее, но Гоар продолжала еще торжественнее:
— Ты готов поселить нас в своем доме, ты… Ты для нас — все. Мы ничем не можем отблагодарить тебя, и это мучит нас сильнее, чем… У нас ничего нет…
— Гоар!..
— …У нас нет ничего, кроме наших тел. Мы знаем, что это грех, но… неблагодарность — еще худший грех. Мы будем молиться, и Бог простит нас. Мы…
Замолчав, Гоар подошла ближе. Распахнув халат, она сбросила его. То же самое сделали другие девочки…
Передо мной стояли четыре обнаженные девичьи фигуры — самые прекрасные во всей Вселенной.
— Де… девочки, вы что! Что вы задумали?.. Оденьтесь сейчас же!.. — язык не слушался меня. Гоар подходила ближе, ближе, и Нарэ, Гаянэ, Заруи — за ней. На глазах у них блестели слезы, щеки их горели — им было стыдно…
— Гоар! Прекрати! Одевайтесь и идите спать! Девоч… — я замолк, потому что Гоар обняла меня, и губки ее стали щекотать мне шею.
Она трепетала, прижимаясь ко мне… и моя рука против воли поползла по гибкой спине, по ягодицам, ощупывая запретную наготу. Другие девочки обступили меня; по мне заскользили нежные руки и губы, обволакивая паутиной прикосновений — все настойчивей, и смелей, и нежней… с меня сползла рубашка, затем майка, панталоны…
Я упирался и протестовал до последнего. Я делал все, что было в моих силах, и даже больше, — но…
Стоило им коснуться меня, прильнуть ко мне, ощутить близость — и волна женской нежности, первозданной и могучей, прорвала стыд, страх и все на свете. Девочки отдались ей без памяти, выплескивая всю душу, всю сладость своих тел… Они обожали меня, они плакали от своей любви, необъятной и бездонной, как ночной океан, и тонули в ней, — и я тонул вместе с ними.
Меня уложили в постель. Закрыв глаза и бормоча бессвязные протесты, я чувствовал, как мою кожу обжигают голые девичьи тела, льнущие ко мне со всех сторон… Минуту спустя я уже не мог ничего говорить — и только корчился под руками и губами, исторгавшими из меня искры блаженства.
Девочки не имели никакого понятия о том, как и где нужно ласкать мужчину. Они ласкали меня, как им подсказывало их чувство, — и от этой безоглядной нежности я выл, кричал и извивался, как угорь. Они обцеловывали и облизывали меня сверху донизу, как котята; гладили меня, щекотали, мяли, обнимали, прижимались ко мне, терлись об меня, обвивали меня, как лианы…
Гоар и Заруи пристроились у моего лица, нежно придерживая его ладонями, и вылизывали, выцеловывали в тысяче мест сразу; Нарэ и Гаянэ занимались моим телом — гладили его, лизали, щекотали язычками и терлись об него мягкими грудями, вминаясь в меня, как в масло. Открыв глаза, я видел свисающие соски Гоар и Заруи, их взгляды, мутные от нежности, и водопады черных волос, щекотавших мне кожу; изнемогая от похоти, я закрывал глаза — и вился ящерицей под ненасытными руками и губами…
В этих ласках было столько жгучей искренности, что никакие изыски моих прежних любовниц не могли сравниться с ними. Чья-то рука проникла мне между ягодиц, другая рука нежно взяла мошонку… влажные губы нашли мой детородный орган, облепили его лавиной поцелуев — и…
— АААААААА!.. — я рвался на сладкие клочки, обхватив два тела, льнущих ко мне. — ААА! ААА! ААА!.. — Девочки, забрызганные моей спермой, замерли, а я метался, сгорая между ними.
«Вот и все. Я не буду их сношать. Вот и все. Не будет разврата. Не будет…» — носилось у меня в голове. «Вот и все» — хотел я сказать им, и не мог, и только прижимал чьи-то тела к себе — не понимая, чьи.
Кто-то снова лизал мне живот, бедра и ноги; чьи-то руки обвили меня, и два жадных язычка забрались мне в уши. Мои любовницы не понимали, что можно поставить точку, и у меня не было сил объяснить им это. Близость дурманила девочек, их темперамент проснулся во всей своей силе, и они неистово ласкали меня, распаляясь с каждой секундой. Я изнемогал от бессилия и благодарности, бессловесной, как у зверя; мои руки путешествовали по девичьим телам, мяли тугие грудки, щупали сосочки, набухшие, как орешки, трогали влагу между ног…
Девочки начинали задыхаться от желания. Их поцелуи снова влили силу в мой отросток, и он окаменел, как пика. Не соображая, что делаю, я схватил ближайшую фигурку – это оказалась Гоар – прижал к себе, прильнул к ее губам, проник языком в горячую глубь рта… Гоар билась в моих руках, а я твердил себе — «не сношать ее, не сношать» — и целовал, целовал, не давая ей вздохнуть. Кто-то тронул мой горящий кол, погладил, лизнул его – и я набух, сгорел и разорвался прежде, чем успел оторваться от Гоар и закричать.
Излившись ей на бедра, я рухнул без сил, уткнувшись в чьи-то шелковые волосы.
…После этого оргазма, четвертого за день, я не мог ни двигаться, ни говорить, ни думать. Я лежал с закрытыми глазами, прижимая к себе Гоар и Гаянэ, как плюшевых мишек; руки Нарэ и Заруи скользили по мне, вгоняя в нирвану… Я успел подумать, что нельзя оставлять девочек неудовлетворенными, я никогда так не делал, — и тут же понял, что не смогу подняться.
— Люли, когда ты сделаешь Это со мной? – спросила Гоар. «Люли» — так они называли меня, переделав мое имя — Льюис — на турецкий лад.
— С тобой?..
Я едва мог шевелить губами.
— Мы бросали жребий. Выпало мне. Я первая. Потом – Нарэ, потом Гаянэ, потом Заруи…
— А где другие девочки? – задал я самый идиотский вопрос, который только мог задать.
— Они в каюте. Мы не взяли их с собой. Они маленькие, им еще нет пятнадцати…
— А вам сколько? – задал я не менее идиотский вопрос.
— А нам всем — по пятнадцать… Люли, ты сделаешь Это с нами? Люли?..
Но я уже провалился в черную дыру без мыслей и чувств.
[/responsivevoice]
Category: Эротическая сказка