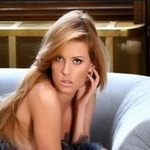Голубой калейдоскоп Часть 1
[responsivevoice voice=»Russian Female» buttontext=»Слушать рассказ онлайн»]Кажется, Отто Вейнингеру принадлежит мысль о том, что наиболее одарённые личности всегда погружены в своё прошлое — в переживания детства, ранней юности, первой молодости, и это перманентное погружение в наиболее глубинные пласты собственных воспоминаний составляет для таких — одарённых — людей основную и постоянную их рефлексию; если это действительно так, то я — из числа одарённых, тем более что другими талантами виртуальный товарищ Бог меня обошел — никак не отметил, никак не выделил, а честно признаться себе в том, что ты зауряден — это ведь, как ни крути, по силам не каждому, — «мы все глядим в Наполеоны», как сказал кто-то из несомненно великих; ну, а если серьёзно… если серьёзно, то, оглядываясь назад — всматриваясь в минувшее, я снова и снова переживаю то, что было со мной когда-то: оглядываясь назад, шелестя страницами пролетевших лет, всматриваясь в голубеющую дымку прошлого, я снова вижу себя то наивным, ещё ничего не знающим, но уже что-то чувствующим мальчиком, то зримо вижу себя голенастым подростком, вопрошающе запрокинувшим лицо в звёздное июльское небо, то не менее отчетливо вижу себя безусым юнцом, в темноте своей комнаты задыхающимся на предательски скрипящей кровати от безответной — тайной — любви к однокласснику… и, вспоминая то сокровенное, что было в моей жизни, я снова — снова и снова! — переживаю то, что однажды со мной уже случилось, уже произошло на этом свете… «на этом» — как будто есть другой, — всё уже было: детство, отрочество, юность… первые открытия, первые ощущения, первые юные радости, первые горькие утраты — всё это прожито, унесено ветром времени, и всё это повторить — пережить сызнова — теперь, по прошествии лет, можно, наверное, только так — вспоминая…
И я — вспоминаю: словно в калейдоскопе, где один причудливый узор непредсказуемо сменяется другим, из глубин моей памяти хаотично возникают мгновения собственной — и не только собственной — жизни; иногда эти мгновения статичны, и тогда они подобны черно-белым фотографиям, на которых отсутствуют звуки и запахи, а иногда мгновения, озарившие память, начинают обрастать деталями — они трансформируются в целые эпизоды, и тогда я отчетливо различаю голоса и запахи, оттенки цветов, интонации, выражения глаз, шевеление губ… всё, что происходило со мной, было, конечно же, вполне банально, вполне тривиально, и вместе с тем — всё это неповторимо, как неповторима всякая человеческая жизнь: вот — мы стоим на весеннем ветру, уже влюблённые друг в друга, но оба ещё не понимающие, что наша взаимная мальчишеская симпатия есть ни что иное, как самая настоящая любовь, — мы стоим на весеннем ветру, говорим о чём-то пустом, несущественном, совершенно неважном, говорим, неотрывно глядя в глаза друг друга, говорим, не зная, что делать с нахлынувшим притяжением; веселый ветер, подхватывая наши слова, тут же уносит их прочь — слова наши исчезают в весенних сумерках, и нам уже не о чем говорить, все наши слова ничего не значат, все пустые слова уже сказаны, а мы всё говорим, говорим и говорим, стоя на весеннем ветру, и — никак не можем наговориться…
Вот — я на юге, в гостях у бабушки, — приехавшие на уборку урожая солдаты, молодые весёлые парни, покинувшие казармы, разгружают на запасном пути железнодорожной станции свои бортовые машины, и мы, мальчишки, крутимся тут же — выпрашиваем у солдат звездочки, значки и вообще всё-всё, что так или иначе связано с армией; я не умею просить — у меня всего одна звездочка, я крепко сжимаю её в кулаке, со скрытой завистью глядя на своих более удачливых друзей, и вдруг… вдруг — счастье: один из солдат, к которому подхожу я несмело, неуверенно, не особо надеясь на удачу, неожиданно надевает на мою вихрастую голову свою выгоревшую, потом пахнущую пилотку и, весело глядя мне в глаза, шутливо хлопает меня по заднице: «Носи, пацан!», — его тёплая раскрытая ладонь, обтекаемо впечатываясь ниже спины, на секунду задерживается на моих упругих пацанячих булочках, но этой секунды оказывается вполне достаточно, чтоб я, от счастья улыбнувшись в ответ на его щедрость, вдруг почувствовал смутное, мне самому еще непонятное, но вполне ощутимое — мгновенное — удовольствие.
.. никто ничего не видит, а если даже и видит, то не придаёт этому никакого значения, потому что светловолосый солдат, не пожалевший для меня пилотку, касается моей задницы лишь на мгновение, и делает он это как бы мимоходом, не вкладывая в свой жест никакого явного смысла… лето, солнцем залитый день, рука улыбающегося солдата на моих пацанячих булочках, и — ощущение полного счастья, — потом, спустя какое-то время — чуть повзрослев и уже смутно догадываясь, что случайными такие жесты не бывают, я время от времени вспоминаю эту тёплую руку, обтекаемо скользнувшую по моей круглой мальчишеской попе, и, мастурбируя в одиночестве — вспоминая симпатичного светловолосого парня, я создаю в своём воображении целые сказочные истории, что могло бы случиться-произойти между нами, если бы… если бы — что?
Вот — вечер, и в комнате выключен свет: пора спать; осенний дождь монотонно барабанит в стекло; я лежу в постели, приспустив трусы — так, чтобы возбуждённо торчащий член был доступен для кулака, и, пальцами одной руки, сунутой между ног, легонько сдавливаю, тискаю промежность, в то время как пальцы руки другой, привычно согнутые в кулак, обжимают твёрдый горячий ствол, — судорожно сдавливая ногами кисть руки, сунутой между ног, сладострастно сжимая мышцы сфинктера, я мастурбирую перед сном, упираясь взглядом в смутно белеющий потолок… впрочем, глядя на потолок — ритмично двигая кулаком, я вижу вовсе не потолок, — перед мысленным моим взором разворачиваются картины сказочные, необыкновенно красочные, почти фантастические: мне видится вечно зелёный, в океане затерянный необитаемый остров, щедро залитый ярким солнцем… серебристо-голубые волны набегают на золотистый песок, в переплетённых лианах поют экзотические птицы, а под одной из пальм сооружен шалаш-хижина Робинзона — моряка с затонувшего корабля, но Робинзон на острове не один — с ним рядом юный Пятница, и они… мастурбируя, я мысленно воображаю себя то Робинзоном, то Пятницей, — на шелковистой зелёной траве смуглый Пятница, не развращенный цивилизацией, не растлённый ни одной религией, а потому — пребывающий в состоянии безмятежного соответствия своей человеческой природе, лежит на спине, разведя полусогнутые в коленях ноги, и я, нависая над ним, ритмично двигаю задом — сладострастно дрочу свой член в его туго обжимающей горячей норке… подростковое моё воображение не может допустить, что Робинзон и Пятница, находясь на затерянном в океане необитаемом острове, где нет ни соглядатаев, ни импотентов-моралистов, где вечнозелёные пальмы, где изумрудно-голубая вода и золотой песок, не наслаждаются друг с другом, — я лежу на спине, раздвинув ноги… и Робинзон, вдавливая в мой живот свой жарко напряженный член, горячо сосёт меня в губы, одновременно щекоча пальцами моё туго сжатое мальчишеское очко…
Вот — зима: за окном лютует мороз, занятия в школе отменены, я прихожу к однокласснику, благо живёт он в соседнем подъезде, дома у него никого нет, и мы, разгоряченные, шумно пыхтящие, боремся на полу — на бордовом паласе, — борьба меня возбуждает, член в брюках становится необыкновенно твёрдым, сладко зудящим, совершенно несгибаемым; с одноклассником, жарко сопящим мне в лицо, происходит то же самое — я чувствую, как его такой же твёрдый член то и дело упирается мне то в ногу, то в пах, то в живот, и мы, продолжая тискать друг друга, уже не столько боремся, сколько, поддаваясь нарастающему удовольствию, трёмся друг о друга выпирающими из брюк стояками, при этом оба с упорством, достойном лучшего применения, старательно делаем вид, что ничего подобного нет и в помине, что мы просто боремся, словно в том пацанячем возбуждении, которое мы испытываем от соприкосновения друг с другом, есть что-то постыдное, нас компрометирующее, — со скрываемым друг от друга наслаждением, сопя и пыхтя, вжимаясь друг в друга напряженно торчащими стояками, мы делаем вид, что мы боремся, только боремся, и когда одноклассник, неожиданно мне поддаваясь, подо мной обмякая, вдруг теряет всякий интерес к борьбе, я не знаю наверняка, но уже могу догадываться, что он, лежа подо мной, прижимая меня к себе, невидимо кончает в трусы — «спускает».
.. то есть, он это делает первым — опережает меня, и я, сопя ему в шею, содрогаясь на нём, спустя пару секунд делаю то же самое, — вслух мы об этом не говорим, нашего взаимного возбуждения, каждый раз заканчивающегося мокрыми трусами, мы никогда никак не обсуждаем — мы с упоением боремся всю зиму, и еще точно так же «боремся» весной, хотя с каждым разом прикрывать невинной борьбой неистребимое стремление к сексуальному удовольствию становится всё труднее…
Вот — постановка на воинский учёт: мы, уже почти старшеклассники, в трусах и плавках ходим со своими личными делами из кабинета в кабинет, — нас собрали в горвоенкомате из двух или трех школ, и мы хорохоримся друг перед другом, мы отпускаем всякие шуточки, травим какие-то байки, тем самым подбадривая себя в непривычной обстановке; в очереди к какому-то очередному врачу я как-то легко и естественно, без всякого внутреннего напряга знакомлюсь с пацаном из другой школы, — он в тесных цветных трусах, и его «хозяйство» слегка выпирает, отчего спереди трусы у него ненавязчиво — вполне пристойно и вместе с тем странно волнующе — бугрятся, а сзади трусы обтягивают упругие, скульптурно продолговатые ягодицы, и вид этих ягодиц, сочно перекатывающихся под тонкой тканью трусов, привлекает моё внимание не меньше, чем ненавязчиво выпирающее «хозяйство» спереди, — я то и дело украдкой бросаю на пацана мимолётные взгляды — смотрю и тут же отвожу глаза в сторону, чтоб никто не заметил моего интереса; в очереди к какому-то очередному врачу он у меня неожиданно о чём-то спрашивает, я удачно отвечаю ему, он смеётся в ответ, глядя мне в глаза, и спустя какое-то время мы уже держимся вместе, занимаем друг другу очередь к очередному врачу, то и дело перебрасываемся какими-то ничего не значащими фразами, и когда всё это заканчивается, он, надевая брюки, зовёт меня к себе — послушать музыку; я соглашаюсь, — он живёт недалеко, и спустя менее получаса мы у него дома действительно слушаем музыку, а потом он показывает мне самый настоящий порнографический журнал; листая глянцевые страницы, я жадно рассматриваю не кукольно красивых женщин, а возбуждённых молодых мужчин, в разных ракурсах имеющих этих самых женщин и сзади, и спереди — во все места, — впитывая взглядом откровенные сцены, я, конечно же, мгновенно возбуждаюсь: мой член, наливаясь упругой твёрдостью — бесстыдно приподнимая брюки, начинает сладостно гудеть, и пацан — мой новый знакомый — тыча пальцем в глянцевую страницу, на которой загорелый парень, держа девчонку за бёдра, с видимым удовольствием засаживает ей в округлившееся очко, странно изменившимся голосом смеётся, глядя мне в глаза: «Не понимаю, зачем всовывать туда — девке… ну, то есть, в жопу — в очко… всовывать девке очко — зачем? В жопу вставляют, когда девок нет… в армии или в тюряге — там, где девок нет, парни это делают между собой… прутся в жопу — кайфуют в очко… а девке туда всовывать — зачем?» — пацан смотрит на меня вопросительно, и я, чувствуя, как стучит в моих висках кровь, пожимаю плечами: «Не знаю… «; невольно скосив глаза вниз, я замечаю, что брюки у пацана, сидящего на диване рядом, точно так же бугрятся, дыбятся, и оттого, что он, сидящий рядом, возбуждён точно так же, я возбуждаюсь ещё больше; мы молча листаем журнал до конца; «Вот — снова в очко… » — пацан, наклоняясь в мою сторону, тычет пальцем в предпоследнюю страницу, и я, стараясь незаметно стиснуть ногами свой ноющий стояк, невнятно отзываюсь в ответ какой-то нейтральной, ничего не значащей куцей фразой; мы ещё какое-то время слушаем музыку, — возбуждение моё не исчезает, оно словно сворачивается, уходит в глубь тела, отчего член медленно теряет пружинистую твёрдость; когда я ухожу, у меня возникает ощущение, что пацан явно разочарован знакомством со мной — он не говорит мне каких-либо слов, свидетельствующих о его желании знакомство продолжить; а я, едва оказываюсь дома, тут же раздеваюсь догола — благо дома никого нет, родители еще на работе — и, ложась ничком на свою тахту, начинаю привычно содрогаться в сладких конвульсиях, — судорожно сжимая ягодицы, елозя сладко залупающимся членом по покрывалу, тыча обнаженной липкой головкой в ладони, подсунутые под живот, я думаю о пацане, который приглашал меня в гости послушать музыку.
.. перед мысленным моим взором мелькают страницы порножурнала — я думаю о пацане, давшим мне посмотреть этот журнал, и мне кажется, что я понимаю, зачем он мне его давал-показывал, — мастурбируя, я представляю, что могло бы случиться-произойти между нами, если бы… если бы — что?
[/responsivevoice]
Category: Гомосексуалы