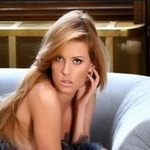Лиза-подлиза
[responsivevoice voice=»Russian Female» buttontext=»Слушать рассказ онлайн»]Лиза-подлиза
Категории:
Традиционно
Потеря девственности
Романтика
Подростки
Фантазии
Эротическая сказка
Классика
Случай
— Обыкновенная советская семья, говорите? — Хозяин прищурился, помолчал. — Да… Рассказать вам, что ли, байку? Из жизни некоего N — одинокого, ушедшего в себя упыря? Байка — пятнадцатилетней давности, свежесть утратила маленько. Рассказать? Ну что ж. Не отличаюсь я особой откровенностью — желанием, знаете, исповедоваться первому встречному… есть у нашего народа такой грешок… Еще Горький писал… Ну да ладно: язык чешется. Показать вам, умникам, что в действительности все не так, как на самом деле? Ну так слушайте.
— Тогда был май — знаете, первые настоящие, буйные дни. Все прет отовсюду, цветет, пахнет, кружит голову. Помню еще — тоска, острая, терпкая такая: все — парами, под ручку, а мне — вроде и нельзя, вроде бы и не с кем разделить весну. Я был дядя порядочный уже, но…
Рассказчик вздохнул.
— В общем — ладно: не важно, что там да почему — до нашей эры… И — еду я в автобусе. Сзади, на боковой лавке. Камчатка.
День, хорошо помню, будний был. Вторник, собственно. У меня — выходной: брожу по городу, как лунатик, а люди — пашут, трудятся… но все равно: лица свежие у всех, весенние. Праздник чувствуется: в воздухе, во взглядах… Дождь еще тогда прошел такой — теплый, парной…
И — напротив меня сели трое. Товарищ в галстуке, интеллигентный такой, и две девушки. Они со мной садились все, на той же остановке, что и я. Вечер, с работы уже поразъезжались все, людей немного.
А я, от тоски, от желания, знаете, выскочить из шкуры, поделиться с какой-то, неизвестной еще душой всем этим — ароматом, воздухом, зеленью — присматриваюсь к людям. Как-то заискивающе даже: дружи со мной, посмотри на меня! Особенно к девушкам, разумеется.
И вот эти показались мне вначале одного возраста. Одна — строгая, красивая такая, интеллектуалка — без очков, но их очень не хватало ей… И вторая — высокая, ростом с меня, худышка, с черными-черными глазищами, большими, как черешни. Лицо дышит-меняется каждую секунду, щеки розовые… Видно, что — пьяная от воздуха, от всего. Жесты порывистые: будто хочет сорваться и полететь. И — несколько раз мы пересеклись взглядами. Я вообще — бессовестный человек в этом отношении: разглядываю людей, не стесняясь. А чего стесняться? Если спросят — отвечаю. Она не спрашивала, но поняла, видно, что я ее разглядываю. И в автобусе — нет-нет, да и проверит: смотрю я или нет?
А взгляд у нее открытый, без вот этой пелены — «не трогай меня!», как у многих. Открытый-открытый, и — сильный. Чувствуется, как ток. Выдержать его непросто: сразу распахивает все заслонки души, как не прикрывай их. Такому взгляду не соврешь.
Мы не говорили. Ехать далеко; едем — сижу, разглядываю их. А там покамест — оживленная беседа: первая девушка, у которой тень очков на глазах, все излагала что-то умное. Уверенно, обаятельно так, и красиво, без запинки. Он отвечал ей, — вроде бы спорили. А вторая, глазастая, молчала, но лицом, взглядом — участвовала в беседе, да так бурно, что казалось: ее только слышно и видно. Не уверен, понимала ли она то, о чем говорили, — но сопереживала, и хотела понять, и пребывала во всем этом — так, что даже ушки разгорелись. Я такого еще не видел.
Время от времени она порывалась что-то вставить — пылко, торопливо; голосок у нее неожиданно густой оказался, бархатный — и видно было, что густота его в новинку для нее, не привыкла она к ней. На нее не слишком обращали внимание, и она умолкала. Наконец, потеряв надежду, она принялась ласкаться к умной девушке. Оглянулась — есть ли кого стесняться, — зыркнула на меня, придержала взгляд на мгновение — дескать, если подсмотришь, сам виноват — и обвила ей шею, прижалась, целует, гладит ей волосы…
Я такой ласковости не видел никогда. Вернее, видел, но только у детей. У совсем крошек — когда еще нет нет барьера «свой-чужой». Нежно-нежно целует ее и там, и здесь, и взгляд дымкой такой подернулся, — а все же нет-нет, да и косится на меня. Я смотрю — и не думаю отворачиваться.
А те двое все дискутируют. Умная девушка, не меняя тона, бросила вдруг — «Лизка, не липни» — и та, покраснев, отодвинулась: губки надулись, глазенки потемнели. Через секунду — снова к ней: перебирает складки платья, трогает ногу, с забавным таким видом — как липучий котенок. Сколько же лет ей, думаю? Вначале думал — 20, может больше; длинная, как-никак, и голос спелый, женский, — но теперь вижу: дитенок дитенком.
— Лизка! Порвешь платье! Ну что ты за человек! Не видишь — мы разговариваем? Она как из джунглей, — это уже было сказано интеллигентному галстуку. Ровным таким голосом. Знаете, как — если чувство хоть какое-то в голосе, — не так обидно…
Вижу: Лиза моя вскочила, подхватилась — лезет к выходу. Глаза на мокром месте.
— Лизка! Да что ж это такое? Сядь на место…
Но автобус притормозил, двери раскрылись — остановка, — и дитенок пулей вылетает наружу. Ловлю смурные взгляды ее товарищей, и вдруг… В самую последнюю секунду — знаете, как разряд такой по телу — дергаюсь, подскакиваю сам и вылетаю из двери. Как снаряд.
Вовремя: уже закрывались, и меня слегка шарахнуло с двух сторон. Ничего, ерунда: главное — успел. Стою на асфальте; темно, фонари, автобус отходит прочь, — и вижу ее. Спиной ко мне, но вижу — плачет. Плечи дергаются…
Сердце билось, как сумасшедшее. Иду за ней и думаю: как же, ну как же заговорить? И вдруг — останавливается, поворачивается ко мне…
— Они меня за человека не считают. Как с кошкой дурной… Ну что я, что я, глупее их? Да? Глупее? — говорит она мне. Жалобно, доверчиво так говорит, будто всю жизнь знакомы. И плачет.
Видно, что плач — не от ситуации, а — изнутри: весна измучила, истомила, старые обиды всплыли, разбухли, как губка, заслонили собой все… Я говорю ей:
— Ну что вы? Ну чего? Ну чего ты? — ибо чувствую невозможность с ней на «вы», — Нет, вовсе не глупая. Совсем не глупая. У тебя умный вид. Очень взрослый. Серьезно. Я умею сразу определять. Ты… по-моему, ты и умная, и… Ну, знаешь, всегда ведь видно человека. Какой он. Вот ты — ты настоящая. И умная. Это сразу видно. У тебя лицо — знаешь какое?..
Я не знал, что говорить, и порол чушь. Лиза смотрела на меня своими глазищами — внимательно, серьезно. На ней везде были фиолетовые дрожащие тени, и глаза стали еще больше…
— Какое?
— Ну… Видно, что ты… что в тебе много чего есть. Много доброго, хорошего… Такого — настоящего. Ты… ты учишься где-то? — перевел я наконец тему. В висках кололо.
— Да… Я ее люблю очень. — Я понял, что речь идет о той девушке. — Она вам нравится?
— Не очень. То есть — она красивая, умная, видно, что умная. Но по-моему, она немножечко свинья…
— Нет! — это был выкрик. — Нет! Она самая лучшая! Она учится, и работает, и в комсомоле… Она — знаете, какая она? Она — настоящая! Я тоже хочу, и буду, когда вырасту… Она и на дзюдо…
— Ну понятно. Красавыца, комсомолка, спортсмэнка… Ну не надо, Лиза, не надо. Не надо!..
Лиза опять плакала. Я обнял ее, уже не чувствуя почему-то робости, — хоть секунду назад меня трясло. Голая рука ее была прохладной и бархатной… Дрогнула, но не отскочила, как я боялся, а наоборот — едва-едва прижалась ко мне, не слишком, но доверчиво.
— Давай посидим тут. А ну-ка, — я развернул ее к лавочке.
— Нет! Не хочу сидеть. Не могу. Давайте идти!
— Ну давайте. А куда?
— Все равно. Вперед. Прямо!
И мы пошли прямо.
Рассказчик вздохнул и замолчал. На лице его была улыбка, какой я никогда еще не видел у него: почти детская, но тонкая, грустная. Я молчал, не решаясь заговорить. Наконец не выдержал:
— А дальше?
— Дальше? — не сразу отозвался рассказчик. — Дальше — мы шли. По тротуару. Темно; мгла густая, как чернила, или как отвар травяной — знаете? — душистый, настоянный на цветах, на этом всем… растущем. И фонари. …Я… я спрашиваю Лизку:
— Она сестра твоя?
— Да. У нас папы разные, а мама одна… Мммм! — Лиза замычала, как теленок. — Не буду, не буду!
Она зажмурилась.
— Что «не буду»?
— Не буду думать. Про Вику, про папу, про все это…
— Дома неблагополучно?
— Не хочу я домой! — Она даже остановилась. — Понимаете? Вы… вот у вас — дом, да? Жена, дети…
— Нет у меня никакой жены. И детей, как ни странно, тоже.
— Нет? И что, один живете?
— Да вот, представь себе.
— Ну вот… У вас никто волноваться не будет, что ночь, а вас дома нет… А я ведь — видели, как выпрыгнула? Дура, да?
— Видел. Нет, не дура.
— Правда?.. Ничего, пусть волнуются. Пусть! Вот всегда я думала: волнуются, и надо пораньше прийти, надо то, надо се… Пусть хоть милицию вызывают!
— И куда же ты пойдешь?
— Вот не знаю! Везде! Везде пойду! Вот! — Она выбежала вперед, распахнув руки.
— Везде? Совсем-совсем везде?
— Совсем-совсем!
— Я с тобой. Можно?
— Что, с такой вот?.. А вам спать надо! — Она и радовалась, и дразнилась.
— Спать? Никаких «спать»! Ты что, не видишь, какая ночь?
— Вижу! Вижу!!! И-и-и-и-и!.. — Лиза запищала, подбежала ко мне и схватила мне за обе руки. — А давай — давай побежим?
— Давай!
И мы побежали.
Меня, знаете, будто с размаху в какой-то безумный вихрь окунули; разом слетела вся шелуха, — вот все вот это… Мы бежали и визжали, как поросята. И она, и я. Да… видели бы меня коллеги по кафедре! (а кстати, — а и пусть! гордился бы!) Она тащила меня и кричала:
— Весна! Весна! Полундрррра!..
— Мы перебудим всех…
— И пусть! И пусть! В атаку-у-у! Но пасара-а-ан!
— Но пасара-а-ан!
— Ого-го-го-го!
— Огугагогаго-о-о!
— И-и-и-и!.. Нас… нас… заберут в психушку. Или в вытрезвитель! — Она, запыхавшись, ткнулась мне в плечо. — А… а ты… а вы…
— Никаких вы! За вы — по мягкому месту!
— Недо… не достанешь! — Она, задыхаясь от смеха, отпрыгнула от меня и покачнулась, хватаясь за воздух. — О-ох! А ты напивался пьяным? Когда нибудь?
Я подумал, как бы я ответил на такой вопрос, будь все иначе, — и отозвался:
— А то как же! Я вообще запойный.
— Нет! Правда?
— Почти. Полуправда-полубред, хочешь верь, а хочешь нет.
— Я как пьяная. Не пила никогда, но наверно, оно вот так вот… Уфф!
— Мы с тобой перепили весны.
— Да-а-а… Весна… Я просто плакать хочу. Я умираю от весны. Вы знаете, как это?..
— Знаю. Я тоже умираю.
— А я знаю. Я вижу. Вы… ты — мой весенний братец. Братик. Хочешь быть весенним братцем?
— Хочу. Мы — майские жуки.
— Почему жуки? Мотыльки.
— Ну, из меня мотылек…
— А ты — бражник. Есть такой, знаешь? Ночной, и толстый такой…
— Вот спасибо!..
— На здоровье! Ну, я худоба, как дрын, рядом со мной ты — целый шкаф. Шкафчик…
Знаете ли вы, что бывает так — когда человек выпрыгивает из собственной своей шкуры? И бегает голый, совсем, до мяса, и все его ранит, и все он впитывает, как живая губка? Я уже думал тогда о том, что рядом, вот совсем близко — мой дом. И о том, что Лизу надо бы отвести к ней. К ней. И о том, что нельзя и думать о том, что…
— Лиза!
— А?
— Тебе хорошо?
— Мне — мммммм! Хочу, чтоб всегда… Чтоб не кончалось. Ты… ты ведь не уйдешь?
— Нет. Буду с тобой по улицам бегать.
— Бегать? Ты — кто? Почему ты на меня смотрел?
— Я человек. Ты хорошая, и я на тебя смотрел.
— Я хорошая? Я глупая, лизучая, как кошка. Я обожаю Вику. Викусю свою. Знаешь, подкатывает иногда вот тут, до слез, и… Я и приревновала немного. Она со своим Павлом все… Ууух! Только я не сержусь уже совсем. Но домой не хочется. Нельзя — домой! Мамочки, как хорошо! Хорошо-о! А давай вот так!
И она вдруг скакнула в лужу, обляпалась вся — и визжит! Я хотел сказать ей: «ноги промочишь», но вместо того — взял и прыгнул сам. Завизжала громче — и давай прыгать-брызгать на меня; я не уступаю… В ногах хлюпает, холодно так — но не простудно, а весело: хочется визжать, дергать, терзать тело этим весенним холодом…
Мы выбрызгали друг на друга всю лужу. Сняла туфли, сказала: «отвернись, я чулки сниму». Я сказал «еще чего», она — «ну ладно, ведь я и вправду не стесняюсь»; сняла, задрав юбку — косилась на меня, куда я смотрю (над нами фонарь светил), — и давай вышагивать босиком. Горделиво так, счастливо… Залезла в грязь. Месит ножками босыми, смеется. Я скинул туфли, носки — и к ней. В жизни не ходил по грязи, хоть и мечтал с детства. Она липкая, ледяная — аж мурашки! — смешно так… Между пальцев червячки продавливаются, чавкают. Ходили с ней, взявшись за руки, танцевали — она напевала еще, что-то плавное, церемонное — «пам-па-ра-пам» — а потом вдруг наступила мне на ногу, и мы как начали топтаться-перемазывать друг другу ноги! Визжим, смеемся оба — она вцепилась в меня, чтоб не упасть, а ножками так и орудует! Вымазались по щиколотку: «какие носочки у нас», говорит. Вся грязь с лужи на ноги наши перекочевала…
И — мы вот как-то так остались стоять, держась друг за друга. Босиком стоим. Она вздрагивала еще от смеха — долго, и я тоже. Потом вдруг спросила:
— Это очень глупо, что я такая лизучая?
— А ты можешь… могла бы меня поцеловать? — Это сказал будто не я, а кто-то во мне.
И прежде чем договорил — подалась ко мне, прижалась к щеке… и я ощутил, знаете, такой влажный укол. В сердце.
Отпрянула.
— А еще?
Снова подалась ко мне, обвила шею — и торопливо, нервно стала покусывать меня губами, обцеловывать мне лицо, глаза, уши, покрывать их влажными следами, обволакивать холодной дрожью…
Что сказать? Я пропал. Я пропал и раньше, — в автобусе еще, наверно. Я улетал на седьмое небо, испарялся, растекался холодными капельками от этой детской, и безоглядной, и терпко-женской нежности. Лиза целовала меня, слегка подлизывая язычком, и шептала:
— Вот тебе, вот тебе. Буду целовать тебя, пока не струсила. Пока не померла со стыда, пока темно… вот тебе… Вот тебе, и вот… Сам напросился, — И лизала меня все более страстно, оплетая руками шею. Я взял Лизину голову — пушистую, холодную ее макушку, — стал отвечать на поцелуи, потом — нашел губы…
Когда мы оторвались друг от друга, я спросил:
— Впервые?..
— Да…
— И как? Жи… живая?
— Не-е-ет! Умира-а-аю! — и она снова бросилась на меня. — Где ты, где? — искала мои губы, нашла… Целовалась бурно, мокро, неуклюже, как щенок.
Сколько так было — не знаю. Стояли босые на холодной земле — не замечали… Потом как-то что-то промелькнуло — сникла, оторвалась, прячет голову у меня на груди. Я — целую ей макушку, зарываюсь в волосы; шепчу: Лиза, Лиза-подлиза, лизучая Лиза… Тебе пора домой, Лиза, говорю.
— Нет, — шепчет, уткнувшись в меня. — Я никогда не пойду домой. Никогда.
— Тогда — пойдем ко мне, говорю.
— К тебе?
— Да. Тут, рядом.
Поднимает голову, смотрит на меня:
— А… а ведь там… там будет ВСЕ?
— Да. Будет все, — отвечал я, холодея.
— Ыых! Я… я боюсь.
— Боишься — пойдем домой. К тебе.
— Нет!!! Я не боюсь. Ничего не боюсь. Пошли. — И она, ухватив меня за локоть, потащила вперед — будто знала, куда идти. — Ой! Колется…
— Пошли. — Я обнял ее за талию, и она прижалась ко мне. Мы не останавливались. Она только спрашивала временами:
— А… будет больно, да?
— Немножко. Потерпишь. Так надо.
— Я знаю… Ой. А что, надо… снять все?
— Да. Все-все надо будет снять.
— Что, совсем? СОВСЕМ? Я не смогу, наверно.
— Сможешь.
— Я очень стеснительная. А мы выключим свет, ладно?
— Ладно.
— Ммммммм!.. — Лиза мычала, как теленок, от ужаса и восторга. Было совсем темно, и мокрое ее платье было холодным. Да…
Рассказчик умолк.
— И… что было потом?… — спросил я его.
— А вы не догадываетесь? Потом — потом вон что было, — рассказчик показал рукой на дверь. — Сашку видели? Вся в маму. Вот что потом было…
— И… как дальше?
— Дальше? Дальше — стеснялась она страшно… До ступора. Мы, как пришли ко мне, вначале мыться отправились — ноги-то в грязи, как у свинок. Мы, кстати, оба стеснялись, — раньше такого со мной не было никогда. Хотелось, конечно, смертельно к ней в душ, но чувствовал — нельзя, рано.
Пока она мылась, я чаю вскипятил, пирожных раздобыл — скудный холостяцкий десерт. Выходит из ванной — волосы мокрые, вьюнками, вся влажная, розовая… халат я свой дал ей — закуталась в него, чтоб я, значит, ничего не подсмотрел, не дай Бог. И за чаем я целую ее, трогаю, а она — сжалась, глазки буравчиками, не реагирует — боится. Все думает, видно, об ЭТОМ.
Ну, я вижу, что так — и говорю: если не хочешь — не надо. Не надо ЭТОГО. Только — пусть будет так, как прежде. Когда в луже стояли. И еще ближе. Я чуть не плакал. А она: нет, пусть будет ЭТО. Я хочу. Так надо. И знаете, в голосе решимость такая — недетская. И боится притом страшно.
Ну что тут делать? Я повел ее в комнату, погасил все; темно было, жутковато… Распахнул полы, раскрыл теплое, бархатное — плечики, грудь, животик, и то, что под ним — распаренное, влажное, нежное-нежное такое, тепленькое. Сам едва дышу от всего этого, и говорю ей: давай, чтоб не так страшно тебе, сразу разденемся оба, и — под одеялко? Она: хорошо.
И вот тут… Легли. Я под низ, она — на меня. И сразу тело к телу, тепло это — растеклось, запульсировало, и она тоже чувствует это, хоть и дрожит пока. Лизонька, говорю. Лизочка, Лизунья моя родная, Лизеночек, — и целую ее. Знаете, как это — когда женское тело прильнуло, клетка к клетке, и грудки мягкие вминаются в тебя?..
И — она сама уже чувствует все это – близость, умиление… сама уже сходит с ума; и тут — как начала меня ласкать! Вдруг прорвало… Боже ж ты мой! Ручками обвивает, как может, обцеловывает везде-везде, жарко так, и подлизывает, и в ноздри язычком, и в уши, и лижет сверху-донизу, и на шею перешла, и на все тело, и пришептывает такие слова, от которых расточиться хочется, растечься в ней: и ненаглядный, и солнышко, и радость моя, и чудо, и мальчишечка, и лапочка… Какая невыносимо ласковая была! И тельцем трется, и женское шевелится уже в ней — хочется грудки помять об меня, и выгнуться, и пизденкой об ногу…
Я подыхал. Знаете, бывают такие моменты, после которых жить не хочется — кажется, что чище, лучше, выше не будет уже… Одеяло уползло куда-то вбок; извиваемся на кровати, катаемся, облизываем друг друга с ног до головы, ревем оба от смертной нежности… И — как-то незаметно я оказался на ней сверху. Сосу ей груди, она — кричит. Шепчет: я умираю, аааа… Груди у нее большие, спелые-спелые, тугие, и вся она – налитая, в соку, я удивился даже, — полудетский фасон платья скрывал ее тело, и она сама, видно, не привыкла к нему, стеснялась, — детская душа ее не понимала, зачем налилась грудь, зачем плечики, зачем бархат в голосе…
Соски набухли — визжит! О стеснении, о чем угодно и думать забыла, вся — здесь, вся растворилась в моменте, в ощущениях своих, и я тоже. От желания я подыхал, думал — не дотерплю, оскандалюсь.
И… как-то ОНО само собой получилось. Вот не поверите. Просто в какой-то момент наши ласки переросли в ЭТО. Просто я заметил вдруг, что вплываю в нее, и насаживаю ее бедра на себя, а она сдавленно воет подо мной, но ласк не прерывает — кусается, извивается, языком мажет меня… и ноет — то ли больно, то ли хорошо ей. И, знаете, — как начал я ее с двух сторон!.. И хуем, и ртом… и руками вминаю ее попку в себя — чтоб глубже проебать девчоночку. Ем ее губами и шепчу ей: Лиза, я уже в тебе. Глубоко в тебе. Лизенок, ты видишь? А? Мы уже делаем ЭТО, Лиза, девочка. Ты уже другая, Лиза-подлиза, Лизавета моя; на дворе весна, Лиза! Вот тебе, и вот, и вот, вот, вот, вот! Наяриваю ей, как бешеный, — а она подмахивает, сипит от ужаса или от чего там, и ноготками впилась в меня…
И вдруг — как выгнет ее! Кричит, захлебывается — и мне хуй выламывает, и хрипит, и вдавливается до упора… Я вжал ее в себя, чтоб достать до конца — и взрываюсь там, поливаю потроха ее… Чума! Мы и не различали, где чье тело. Мы были бешеным клубком, и клубок этот — извивался, лизался, истекал слюной, соками, кончей, растекался и умирал. И когда все кончилось, мы долго еще прыгали по инерции; хуище мой отвердел и никак не желал давать отбой, хоть и выплюнул уже все, что было…
Уже потом, через пару дней, я снял простыню, вырезал кровавое пятно из нее — «это память будет, говорю, о тех временах, когда Лиза была девочкой, стеснительной, нецелованной девочкой». А после нашего первого раза — включил свет, специально, чтобы застеснять, застыдить Лизу, чтоб она осознала, кто она и что с ней. Лежит голая на кровати, жмется, стонет; пизда в крови, и ноги тоже, и все под ней. Смотри, говорю! И не сметь стесняться! И трогаю ей пизду, и ноги, и в попку пальцем залез. Это все теперь мое, наше с тобой, говорю. Теперь ты — вот такая! А зайчиком стеснительным была раньше — до нашей эры. Понятно? Теперь ты — женщина! Голая, оплодотворенная, взрослая, прекрасная женщина! И плачем оба.
Я пизду ее лизать начал, слизываю кровь ее, как самый вкусный джем, и потом целую в ротик ее — пробуй, говорю, вкус твоей девственности. И снова — к пизде. Хочу, чтоб она обкончалась вот так — и от сладости в пизде, и от стыда, от того, что ее — вот так… Тут и выгнуло ее снова — почти мгновенно. А, кричит, аай, мамочки! — воет, будто от боли дохнет, и голые бедра ходуном ходят, как маховик. Вымазала пиздой все лицо мне — а я уже страшно в нее хочу, просто сил нет; мечется она — а я снова в нее лезу, и приговариваю: покажем кузькину мать девочке, покажем сладкой! Никакой пощады девочке — май на дворе… Заебал ее снова, обкончал внутри — умереть просто…
Четыре раза. Четыре раза той ночью — до самого утра. Разок заснули только; проснулся затемно — выебал ее снова, теплую, спящую. Залил изнутри ее до ушей. Говорил ей: Лиза, Лиза-подлиза, вот как оно бывает, Лиза. Смотри, Лиза: я в самом-самом стыдном твоем месте, Лиза, в самом страшном, ты стеснялась его, прятала его. Тебе хорошо, Лиза? И она мне: умираю! Хочу влезть в тебя и умереть. Хочу стать тобой. Родненький мой. Ебется — и шепчет такое. И я хочу, Лиза, говорил я — и еб ее, еб, пока в ушах не зазвенело…
К утру я раздел ее при свете, мял и лизал ее, чтоб не стеснялась, — а она стонала и шептала: ой как стыдно, мамочки… Тогда я отвел ее к зеркалу, поставил ее перед ним прямо на пол — на четвереньки, раком, — и стал ебать ее, и кричать: смотри! Смотри! Сунул хуй в нее — а там все мокро, чавкает даже. Она вначале жмурилась, но потом раскрыла глаза, конечно — и увидела, как я наяриваю ей, и как грудки ее ходуном ходят, и личико свое увидела, и глазки с поволокой, и ротик приоткрытый, и всю себя… Я еще грудки мну ей, дою ее, как буренку, и ебу — а она смотрит. Глазищи распахнула, мордочка красная…
Кончила через полминуты, я не успел дойти даже. Выла и терлась личиком об пол — даром, что пизда болела. Вот так вот. Понял, говорю, Лизенок мой, кто мы теперь такие? Понял мой сладкий? А она на полу лежит, голая, сытая, и говорит: я поняла, почему это голыми делают. Потому что голое тело, говорит, удобнее ласкать, и так чудесно… И когда ты со мной ЭТО делаешь — ты тоже ласкаешь меня. ТАМ. Я поняла, говорит…
Да… А потом — потом мне ведь надо было отвести ее домой. Задача, — а? А утро — знаете какое? Знаете эти майские утра? когда птицы с ума сходят, и хочется то ли жить, то ли умереть — черт его разберет! Да еще и после всего, что было с ней. И со мной. С нами. Потрясенная, пугливая была… Не ходи, говорит, со мной, я сама. Они съедят тебя. На здоровье, говорю я.
Иду с ней. Молчим. Десять утра. И тут …вижу — загс. Вы понимаете? Ну, думаю, раз безумие — то пусть уж совсем. К черту рассудок!
— У тебя есть паспорт? — говорю.
— Есть. Вот тут, — тронула сумочку. — А зачем?
— А вот видишь, говорю, какое заведение? Я что с тобой сегодня ночью сделал? Значит — я, как честный человек, должен — что? — правильно: жениться на тебе. Так чего тянуть?
Ахнула, побледнела. А… а свадьба, говорит, а все это?..
— Потом, говорю. Все потом. Вот наша свадьба, — и показываю на каштаны, на буйный цвет, на молочный дождь сверху. — Вот и конфетти, говорю. А? — живое! Что, бумага разве лучше? А? Смотри: как всю тебя разукрасило — и вынимаю из волос у нее белые лепестки, шелковые, влажные. Она — смотрит своими глазищами. Плачет. Чего плачешь, говорю? Ткнулась мне в шею…
Так и пошли расписываться: в мокрых туфлях, забрызганные все, в белых лепестках… Вот так вот и родилась обыкновенная советская семья!
Минуту мы молчали. Потом кто-то спросил:
— Ну и ну! А что — в ее семье? Как вы вернулись, что говорили?
— Что говорили? А не все ли равно? История, конечно, милая: выпрыгнула из автобуса, пропала на всю ночь, перетряслись все, в милицию звонили; а наутро приходит — замужем. И с хахалем, с мужем, то бишь, под ручку. Мило? В самом буквальном смысле: выпрыгнула замуж. Ей, между прочим, тогда два дня только, как семнадцать исполнилось. Поторопилась бы прыгать из автобуса — и что тогда? Но ничего: прошел годик, и мы все нашли общий язык. Это все чепуха. С каждым годом наша советская семья становилась, как изволите видеть, все обыкновеннее, обыкновеннее… Вот недавно удрали на ночь в лес. Спать надо, а мы — в лес. Дочка понимает нас…
[/responsivevoice]
Category: Случай