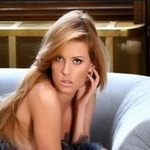Дезертир
[responsivevoice voice=»Russian Female» buttontext=»Слушать рассказ онлайн»]
«… Они жили долго и счастливо, и умерли в один день». Этими словами оканчивался очередной роман.
— Ё, блядь! Нахуймудоебать!… — книжка полетела на пол, распластавшись розовой обложкой кверху. Петраха швырнул ее так, что от толчка пошатнулся диван.
Лой Петраха, Тыща-Главнища* хайернского гарнизона, ненавидел розовые романы. Он ненавидел любовные сопли, ненавидел романтику, ахи, охи и сладкие хэппи-энды. И было совершенно непонятно, почему он запоем читал эти романы, прочитав почти все, которые были в гарнизонной библиотеке.
_________________________
*Военный чин, примерно соответствующий нашему генерал-лейтенанту. — прим. авт.
Впрочем, сегодня у него было плохое настроение. Надо же: эта хуйня совпала с его службой на Хайерне. И сегодня ему предстоит руководить ею. Нахуйпиздомудобляпереебать!..
По законам Империи каждые два года во всяком округе, где стоял гарнизон, проводилось мероприятие, которое официально называлось Омоложением Нации, а в народе — Солдатским Хуем или Девкиной Смертью. В этот день все девушки округа, вне зависимости от того, был ли у них парень, принудительно свозились в гарнизон и отдавались на потеху солдатам, вливавшим в них литры застоявшейся похоти.
Для этой цели сооружались специальные конструкции — длинные ряды из множества кабинок, прозванных «ебалками». В каждой «ебалке» стояло нечто вроде гинекологического кресла, в котором закреплялась девушка, предварительно раздетая догола. Ее руки и ноги фиксировались защелками, бедра раскорячивались в стороны, и девушка лежала лягушкой, выпятив пизду для всеобщего пользования. Высота «ебалки» регулировалась, чтобы каждый осеменитель мог поднять и опустить девушку до уровня своего хуя. На одну девушку обычно приходилось от трех до десяти солдат, но бывало и больше.
Таким образом Империя пыталась поддерживать рождаемость, которая и так неуклонно падала: в молодежных тусовках рожать детей считалось неприличным и тупым занятием. Беременные, которых называли «пиздобрюхими», подвергались обструкции и сидели под домашним арестом, опасаясь нападения гопников, вспарывавших им животы. Все это творилось, правда, в крупных городах, а в захолустье вроде Хайерна жизнь текла лениво, как в незапамятные времена, и Солдатский Хуй был шоком, больно бившим по всей колонии.
Годность девушки к Солдатскому Хую определялась на медосмотре. Годной считалась любая здоровая, телесно созревшая девушка вне зависимости от возраста; негодными считались только беременные и заразные. Законный брак спасал от Солдатского Хуя лишь в том случае, если у женщины был хотя бы один ребенок, либо если она состояла в браке не более года. Учитывая то, что браки были так же непопулярны, как и беременность (к тому же получение лицензии на брак стоило немалых взяток), на Солдатский Хуй были обречены не менее 95% девушек и женщин до 30 лет. Процентов 25 действительно беременели, и половина из них благополучно рожала новых верноподданных Империи; остальные либо пользовались абортами, строго запрещенными (однако девушка, перенесшая аборт, считалась героиней и пользовалась всяческим уважением на тусовках), либо рожали мертвых, либо умирали сами.
Разумеется, была обильная практика закосов от Солдатского Хуя — от фиктивных браков до подкупов, симуляций и даже самозаражений. Были и девушки, ждавшие Солдатского Хуя, как праздника (и они тоже пользовались большим уважением).
Петраха, как Тыща-Главнища, мог только управлять организацией Солдатского Хуя, но не мог отменить его. Даже начальник его начальника — Его Богатырствие Гиперглавнища Округа У-567 Орлан Хламожил не мог отменить Солдатский Хуй, проводимый в рамках государственной программы и подведомственный только Звездному Совету.
При мысли о бесконечных толпах голых девушек, обезумевших от страха и стыда, вопящих, галдящих, воющих под напором солдатских хуев, Петраха выругался так, что сам себе удивился.
Ругань считалась главным шиком вояки, и без витиеватых семиэтажных тот был все равно что без мундира. Лихо закинув ногу в сапожище на антикварный буфет, подаренный ему каким-то подхалимом, Петраха нащупал самограйку, ударил по струнам и хрипло затянул:
— У лукомудья хуй ебеный,
Златой гандон на хуе том.
И днем и ночью вошь пизденый
Хуячит по хую кругом.
Хуйнет направо — матом кроет,
Налево — «нахуй» говорит.
Там хуета: там целка воет,
Блядина на мудях сидит
Это была старинная песня, которую горланило не одно поколение вояк Империи. Говорили, что она написана еще на Земле, чуть ли не в XXII или даже в XXI веке — великим поэтом Мушкиным, или Копушкиным, или Ебушкиным — хуй его знает, вылетело из головы
Петраха с силой шваркнул по струнам, кинул самограйку за спину и откинулся на диване. Рука его полезла за китель и нащупала там заветный цилиндрик, который он всегда носил с собой, не зная зачем
***
Петраха не рассказывал об этом никому, даже собутыльникам.
Он нашел его в пустыне, у разбитого гравиплана. Авария произошла давно, может быть, до завоевания Хайерна, и молодой Петраха, тогда еще обыкновенный сотник, лихо насвистывал, наподдавая ногой древнюю технику.
Тогда-то его сапог и выбил из запыленной груды дюраля небольшой серебристый цилиндр с цветными кнопками.
Петраха задумчиво подобрал его. Штуковина была явно инопланетной. Изо всех сил борясь с искушением нажать на кнопки, Петраха чувствовал, что сейчас случится одно из двух: либо он нажмет, либо умрет от любопытства. Сочтя первый исход более достойным храброго солдата, он зажмурился и ткнул ногтем в большую красную кнопку.
… И хрюкнул от изумления: пространство вокруг него вдруг смазалось, поплыло, расточилось невесть куда, и вместо него соткалось совсем другое: голубое, упоительно-красочное, с деревьями, цветами, сладким чистым воздухом и милым домиком с красной крышей.
Петраха стоял, раскрыв рот, и не знал, что ему думать, делать и говорить. «Еб твою мать» — по зрелому размышлению произнес он, почесав затылок. Возле домика работала с тяпкой миловидная старушка в платочке. Увидав Петраху, она всплеснула руками и направилась к нему.
— … ? — спросила она. — … ?
Петраха не сразу понял, что она говорит на его языке, Великомогучем Языке Империи, только сильно искаженном. Это был какой-то диалект, которого он никогда не слыхал.
— Чего? — переспросил он.
Телепортатор? Тебя перенес телепортатор? — спрашивала старушка. Петраха догадался, что так называется штука, которую он держал в руках.
Да… Наверно… Где я?..
Все это было, как сон. Старушка отвела его в дом, угостила чаем с пирожками, была с ним нежна и ласкова, хоть к ране прикладывай, и Петраха купался в этом неожиданном сне, как в шоколаде. Старушка рассказала ему: раз он, Петраха, очутился здесь — наверно, ему попался телепортатор одного из ее покойных сыновей, погибших на другом конце Галактики. Он, Петраха, сам похож на ее сыновей, Шуха и Браждана, повторяла старушка, и она хотела бы, чтобы он остался здесь, с ней. Она ни к чему не принуждает его, но
«Как мне вернуться домой»? — спросил Петраха.
Старушка взяла у него телепортатор, повертела его в руках и сказала: «Здесь хватит энергии на три переброса. Ты сможешь попасть домой, потом вернуться сюда, потом снова домой. Или, если захочешь, привезти кого-то с собой. Тогда переброс будет считаться за два… Достаточно нажать эту кнопку, и ты дома. Побудь еще, не уходи сразу, останься хоть ненадолго…»
И Петраха остался. Он пробыл три дня в этой сказке, где не было войн, казармы, пустыни, грязи и вонючих портянок, а был чистый голубой воздух, зелень, тишина и ласковая бабушка Ладна, закармливавшая его пирожками.
— Ты вернешься сюда, — говорила она ему на прощанье. — Мой дом будет ждать тебя.
Это было четырнадцать лет назад. Петраха никак не решался истратить последний переброс, пока не осознал, что бабушки Ладны, наверно, давно нет в живых, а он
из красавца-офицера стал обрюзгшим куском волосатой плоти.
Он мог бы ненадолго переброситься туда и обратно, но мысль о том, что он больше не сможет увидеть красный домик, была невыносима, а переселиться навсегда у него не хватало смелости. Дезертирство со службы было не только наказуемо (хоть его, положим, никто не нашел бы на голубой планете, которая хуй знает где находится и как называется), но и легло бы тяжким грузом на совести. Воинский долг и будни цепко держали его, не отпуская в голубой мир, и Петраха носил с собой телепортатор, как фетиш своих надежд и своей юности.
***
Зависнув в парадном гравиплане над длинными рядами «ебалок», Петраха наблюдал, криво усмехаясь, за процессом Омоложения Нации.
Играл развеселый марш, смешиваясь с какофонией воплей; на плацу, залитом жестким хайернским солнцем, в бесчисленных кабинках сновали взад-вперед солдатские бедра с приспущенными штанами, а под ними корчились прикованные девки, раскрыв рты и выпучив глаза. Вокруг колыхались плакаты с символикой Империи, портретами членов Звездного Совета и румяными матерями, кормящими младенцев с лихими солдатскими взглядами.
Крыш в кабинках не было (от солнца защищали специальные передвижные щиты), и перед Петрахой простиралась панорама лиц, сисек всех форм и размеров, раскоряченных ног и распахнутых пизд, куда окунались мясистые солдатские хуи. Некоторые солдаты мяли девичьи тела, тиская бока и сиськи, некоторые ебали без лишних тонкостей, как кобели, некоторые проявляли любовную сноровку, целуя девкам соски и надрачивая их пизды. Тела девок, крепко пристегнутых к «ебалкам», гнулись ящерицами: прятаться было негде. То и дело какой-нибудь солдат вдавливался в девку всем телом, дергался, обмякал, затем выходил, шатаясь, из кабинки, и его сменял следующий. Иные здоровались с девками, кокетничали, озорничали, иные приступали к своему делу молча, а иные были и не дураки помучить. Любой садизм, впрочем, был запрещен, и нарушителям грозила месячная гауптвахта.
Рядом был пункт отгрузки: туда подлетали «летающие ящики»*, выгружавшие очередную партию перепуганных девок. Их вели в раздевалку, оголяли — и под конвоем вели к рабочим местам, подменяя оплодотворенных матерей Империи свежими телами.
___________________________
*Тип демократического транспорта с низкими показателями скорости и комфорта; также наз. «говнолетами». — прим. авт.
Сейчас из раздевалки как раз вели свежую партию. Глаза Петрахи подсознательно отметили чью-то физиономию; скользнув взглядом по кавалькаде голых фигур, он всмотрелся в нее внимательней — и вдруг громко выругался.
Нога его сама врезалась в педаль. Гравиплан буквально свалился вниз, едва не придавив дюжину солдат. Веляна?..
Но она же совсем козявка, не может быть
Глаза не обманули его: конвоиры вели голую Веляну, и тело ее ясно сказало Петрахе, что никакой ошибки нет: ее сиськи, неведомо когда выросшие, уже буравили сосками воздух, выпуклая пизда курчавилась густым пухом, а томные бедра раздались вширь, наполняя объемом повзрослевшую фигурку. «Еб твою мать, это ж ей уже сколько? восемнадцать? Совсем недавно ведь бегала бурундучком без намека на… Блядь, блядь, блядь!…»
Петраха знал Веляну с пяти лет. Когда-то, когда он еще не мог доставить к себе в кабинет любую шлюху и был вынужден лично добиваться женского внимания, он подбивал клинья под одну деревенскую бабу. Ее звали Грицка, и у нее были огромные глаза — ни дать ни взять два карих локатора-отражателя, мерцающих перламутровым блеском.
Как-то постепенно Петраха потерял интерес к ней — может быть, потому, что встретил бабу моложе и сисястей Грицки, а может быть, потому, что семья Грицки была крепкой и уютной. Петраха еще не встречал таких семей: сам он был детдомовским постреленком, нацеленным с горшка на военную карьеру. Но в дом к Грицке он продолжал ходить, и уже не столько к ней, сколько «просто так».
Ее дочь вызывала в нем странное чувство. Она была ребенком особенным, даже удивительным: в годик с лишним болтала, как не болтают и пятилетние, в четыре сочиняла и записывала сказки на двух языках, в пять, когда Петраха познакомился с ней, зачитывалась «взрослыми» книжками, преимущественно розовыми романами.
Неизвестно, что она понимала в них, но оторвать ее от чтения мог только приход Петрахи.
Она обожала его, называла дядькой Лойкой и визжала от восторга, когда тот крутил ее над головой, подбрасывал в воздух и катал на казенном гравиплане. Подтянутый, чопорный Петраха бегал с ней, как угорелый, по пыльным дюнам, устраивал с ней грязевые бои, перемазывался с ног до головы и топил в иле маленькое тельце, хрипящее от счастья. Они были шуточными врагами, вечно швырялись друг в друга чем попало — от варенья до коровьих кизяков — и это переходило всякие границы (с точки зрения Грицки и Дрила, ее мужа), но Петраха ничуть не возражал. Он сидел с ней за книжками, рассказывал ей о Галактике, о разных планетах, об их природе и чудесах, и очень быстро понял, что в доме Грицки и Дрила растет настоящее чудо. Трудно было понять, к чему Веляна проявляет больше склонности: к языкам, к математике, к технике или к фантазированию: все у нее выходило играючи, и когда она пошла в школу, ее сразу же зачислили во второй класс. Так она, прыгая из класса в класс, как по клеткам классиков, закончила 12-летнюю школу за 9 лет. Ко всему прочему она была миловидной, как ангел: черные волнистые волосы, блестящие карие глаза, за которые Петраха прозвал ее бурундучком, умный, вечно наморщенный лобик, неизменные ямочки на щеках и улыбка, расцветавшая по поводу и без повода. Когда Веляна входила в дом, вначале показывалась ее улыбка, а затем и ее хозяйка. Впрочем, Веляна никогда никуда не входила, а всегда вбегала и влетала (а иногда и впадала).
Когда она стала взрослей, бои кизяками уступили место бесконечным словесным поединкам. Веляна дразнилась изысканно и неистощимо, и дядька Лойка с удивлением замечал, что с этим тринадцатилетним чертенком он кажется себе умнее, чем думал сам о себе. С ней нельзя было ругаться, и Петрахе пришлось вспомнить столько слов, сколько он не произнес за всю свою жизнь. (С товарищами было куда проще: один и тот же набор из четырех слов мог обозначать все, что угодн)
В редкие минуты, свободные от дразнилок, она сворачивалась калачиком на коленях у Петрахи (точнее, там помещалась ее четверть, но все равно это выглядело именно так), и тот «искал жуков» в ее голове, а когда папы с мамой не было дома — раздевал ее догола и чухал ей спинку и ягодицы. Последний раз это было два года назад.
В тот же год от зеленой лихорадки умерли ее родители. Сама Веляна еле выкарабкалась, и то потому, что Петраха своими связями добыл ей редкостные медикаменты. Их хватило только на нее. С тех пор она жила у соседей: закон запрещал военным заводить семью и детей — хоть родных, хоть приемных. В последнее время они виделись меньше, и Петраха чувствовал в ней надлом: ее дразнилки стали злей и больней, она стала отмалчиваться, капризничать, говорить Петрахе всякие странности, на которые тот не знал, как реагировать. «Наверно, это и называется «переходный возраст»», думал он, когда Веляна в очередной раз выдавала ему какую-нибудь отчаянную гадость, а потом хохотала, будто ничего не произошло. Петраха тосковал и уходил в книжки — в розовые романы, к которым его когда-то пристрастила маленькая Веляна, давно выросшая из них
Никаких определенных перспектив в этой глуши не было и не могло быть, хоть Петраха и лелеял мечту определить Веляну в Академию Звездного Совета, чтобы она стала Тыщей-Мудрищей*. Протекция Петрахи помогала ей в школе, где Веляне всячески потакали, зная, что ей протежирует Его Главнейшество, — но была бессильна избавить ее от Солдатского Хуя.
__________________________
*Ученая степень, примерно соответствующая нашему доктору наук. — прим. авт.
***
… Веляна шла к «ебалке» не так, как другие — перепуганные, сгорбленные от стыда и страха …
девки; в ее походке было отчаянное кокетство и бравада, и она говорила конвоирам что-то, явно непривычное для их ушей.
Выскочив из гравиплана, Петраха кинулся вдогонку. Импульс был мгновенным: Петраха не знал, что он будет делать, а просто бежал за ней, и все.
Удивленные солдаты вытягивались во фрунт и отдавали ему честь. «Отвали, блядь» — пихнул он сотника, стоявшего на дороге
Никто не запрещал командным чинам участвовать в Омоложении Нации. Добежав до «ебалки», Петраха дождался, пока конвоиры прикрепят Веляну к креслу, а затем выпихнул их из «ебалки», зная их обыкновение тут же и пристроиться к свеженькой девочке.
Осенив конвоиров пинком Главнейших рук, Петраха ввалился к Веляне.
— Привет, бурундучок, — сказал он ей, как идиот.
Ооооо!… Ну, ну как же: Ваше Главнейшество! Вот кого не ожидала! Ты пришел оплодотворить меня?
Нет. Заткнись! Я… я просто зашел, — говорил Петраха, морщась от собственного идиотизма.
Ах, «просто»! В гости! Тогда отвяжи меня, и мы поговорим о вечном.
Не могу, Веляна, — горько сказал Петраха. — Не мо-гу. Не имею права.
А я думала, что ты вроде бога, который умеет розы делать из кизяков… Что ты будешь здесь делать, позволь мне полюбопытствовать?
Не знаю. Не знаю! — Петраха опустил руки. Солдатский Хуй продлится до ночи, и все это время стоять здесь у всех на виду было невозможно. Нужно было или ебать ее, или дать выебать другим.
Голая, раскоряченная Веляна лежала перед ним, зияя мохнатой пиздой. Она действительно сильно повзрослела: когда Петраха в последний раз видел ее голышом, он видел совсем другое существо. Ее пизда и сиськи, небольшие, но уже вполне налитые и женственные, кричали перед самым носом у Петрахи, и тот вдруг почувствовал, что его хуй готов прорвать штаны.
«Это еще что за новости!… « Петраха стоял возле нее, не зная, что ему делать, и думал о том, что скоро кто-нибудь обязательно свяжется с Базой и донесет о странном поведении Тыщи-Главнищи, и… Веляна говорила ему что-то ядовитое, переходя на визгливые нотки, и Петраха видел, что она на пределе. Несколько раз на его памяти такие всплески ехидства переходили в затяжные истерики
— Заткнись, — сказал он ей, опускаясь на колени.
О! Что я вижу! Главный человек Вселенной на коленях перед… Оооу! — Веляна взвыла, потому что Петраха лизнул ее прямо в пизду.
Он ввинчивался языком все глубже в соленые складочки, липкие и мокрые, хоть выкручивай, и думал — «еб твою мать, что же я делаю?» Его научила этой ласке одна шлюха, и когда-то половина хайернских баб набивалась Петрахе в постель, чтобы подставиться его язычку. Он никогда, никогда не думал, что будет делать это Веляне — даже тогда, когда чухал ей голое выгнутое тельце, — а сейчас влизывался все плотнее в пряную липкость ее пизды, благодарно выпяченной вверх, и обволакивал тающими подлизываниями вишенку клитора, мгновенно взбухшую под его языком.
Веляна стонала, и Петраха знал, что ей хорошо, как никогда в жизни. Он чувствовал, что едет по нужным рельсам, и его язык влип в самые сладостные, самые чувствительные ее недра, и дразнит их, и там накапливается сладкое электричество, растекаясь по всему телу; он лизал, жалил, подсасывал, колол языком вишенку, теребил ее, как струну, облизывал плашмя, исторгая из Веляны сдавленный хрип, влизывался вглубь, натягивал кончиком языка упругую целку, заполнял языком и губами всю пизду, и она сочилась солью, стекавшей с его подбородка
— Ииии… иииии… — пищала Веляна. Над ними парил инспекторский гравиплан; Петраха знал это и думал — «небось снимают на видео, паразиты». Он оттягивал самый сладкий момент — когда тело, измученное лизаниями, вдруг сожмется в комок кипящей лавы и само, без принуждения исторгнет из себя долгожданное Это. Язык Петрахи дразнил набухший бутончик, покалывая его там и тут, и вдруг облепил желобок у основания вишенки, окутал его сладкой влагой и сдавил вишенку, дергая ее вверх-вниз, как струну
Веляна кончала навзрыд, выпрыгивая из «ебалки» и перекрикивая весь разношерстный гам Солдатского Хуя. Когда она обмякла, Петраха поднялся с колен, утерся рукавом — и быстро расстегнул штаны.
В нем не было никаких мыслей, кроме голой Веляны, выдавившей из него весь ум и всю память.
Веляна после оргазма не соображала, что к чему — и поэтому даже не успела испугаться, когда в нее вдруг ткнулось твердое и требовательное, заполнило весь ее горящий низ, прорвало пленку боли — и проникло вовнутрь, и наполнило, и расперло ее там, как наручную куклу
«Я ебу Веляну, мою Веляну», думал Петраха. Медленно ворочаясь в ней, он смотрел в ее глаза, потемневшие от оргазма, и видел, что шока не было, скорее удивление, — и большой боли тоже не было: возбуждение перекрыло все, и Веляна потихоньку подмахивала Петрахе, прислушиваясь к новым ощущениям. Ее бедра, распятые «ебалкой», удивленно отвечали Петрахе, и тот окунал хуй в самые их недра, вдавливая яйца в мохнатый холмик. Ему было зверски хорошо и тоскливо, как ни на одной ебле.
Вдруг он осознал, что Веляна улыбается. И тут же услышал:
Хорошоооо… как хорошоооооо… как же хорошо, ааааа
Неожиданные слова обожгли Петраху, и тот впился рукой в бутон Веляны, заставив ее пищать на октаву выше. Его неудержимо несло к финишу, но он уже знал, что делать. А пока нужно дотерпеть, чтобы Веляна кончила во второй раз
— Ну давай, бурундочок, давай, давай, поднатужься, давай, ты же можешь… — хрипел он, терзая ей пизду рукой и хуем. Улыбка Веляны вдруг перешла в чертячью гримасу, глаза остекленели — и
— ЫЫЫЫЫЫ!!! — они кричали хором, сплющивая друг о друга свои лобки, и Петраха лез на Веляну, как зверь, царапая ногтями ее кожу. Он подыхал от жадности, и ему казалось, что он скукожится от жуткого телесного голода, лопнет и расточится на капельки горящей плоти, если не наполнит спермой каждую клеточку Веляны, не зальет ее по уши и по глаза; он хватал ее за бедра, за плечи, за что попало — и вдавливал в себя, пытаясь влезть в нее с потрохами и достать ей до сердца; утолив бешеную похоть, он только старался, чтобы Веляна не вывихнула ему хуй, не желавший сдаваться, — а та все молотила бедрами, выдавливая из себя все до капельки, весь океан, клокотавший в ней, и улыбалась чертячьей улыбкой, которой Петраха никогда не видел у кончающей женщины
Когда все закончилось, и оглушенная Веляна недоверчиво смотрела на Петраху, — тот сунул руку в карман и, преодолевая блаженное таянье всего тела, достал маленькую штуковину, похожую на хлопушку.
— С приобщением, бурундучок, — сказал он ей. Веляна потрясенно улыбалась ему, — а тот поднес к ней руку и ткнул штуковиной в бедро.
Веляна вздрогнула — и обмякла мертвой куклой.
***
На бедре осталась красная точечка, которую Петраха поспешно притер пальцем, косясь на гравиплан. Только бы не заметили
— Девушке стало плохо, — сказал он, выходя из «ебалки». — Без сознания. Похоже, сердечный приступ. Немедленно в больницу.
Вокруг засуетились, с уважением глядя на Петраху («заебал до обморока» — шептались у него за спиной). Через минуту Веляну вынесли из ебалки. Она не подавала никаких признаков жизни.
— Дело дрянь. Я сам отвезу ее. Давайте сюда, — Петраха подбежал к гравиплану. За ним бежали солдаты с Веляной. — Прямо на сиденье. Вот так
Не тратя лишних слов, он хлопнул дверцей и нажал на старт, придерживая рукой безжизненное тело. Гравиплан взмыл в воздух и понесся над колонией.
«Хорошо, что салага не в курсе», думал Петраха, щупая в кармане деактиватор — секретное оружие, позволяющее на полчаса отключить все функции организма без какого-либо ущерба для здоровья. Деактиваторы выдавались только командному составу, и пользоваться ими разрешалось только в крайних случаях. «Сейчас как раз крайний случай, хе-хе», думал Петраха, «но почему, почему я не догадался раньше?…»
Он перетащил обвисшее тело Веляны к себе на колени, достал из потайного кармана серебристый цилиндрик — и придавил заветную кнопку.
Вокруг завибрировало знакомое, хоть и полузабытое уже мерцание, и гравиплан, несущийся над Хайерном, расточился и отошел в никуда. Вместо него из пустоты соткался голубой свет, деревья, трава — и красный домик с покосившейся оградой.
Петраха стоял на траве и держал в руках голую Веляну. Ее черные локоны свесились вниз и сплелись с голубыми одичавшими цветами.
«Гравиплан разобьется, и скажут: Его Главнейшество заебал и девку, и себя до обморока. Обо мне будут ходить легенды. Ха!»
Из соседнего домика вышел высокий старик. Подойдя к Петрахе, он внимательно посмотрел на него и спросил:
— Что с девушкой? Она мертва?
Петраха с трудом разбирал непривычное наречие.
— Нет. Она спит. Скоро проснется, — ответил он.
Какое-то время старик смотрел на него. Потом спросил:
— Господин Лой Пирага? Тебя перенес телепортатор?
Петраха, — поправил его Петраха. — Да, это я.
Старик принял торжественный вид.
— Тогда я приглашаю тебя в дом покойной госпожи Елень. Перед смертью она поручила мне передать тебе, когда ты вернешься, ее дом с садом в вечное владение. Прошу!
Он повел Петраху в знакомый домик, запустевший без хозяйки.
Петраха шел за ним, сдерживая предательскую щекотку в горле, и думал о том, что он опоздал и никогда больше не увидит руку, подающую ему пирожки. И еще — о том, что он скажет Веляне, когда та проснется.
Автор: Человекус (http://sexytales.org)
[/responsivevoice]
Category: Потеря девственности