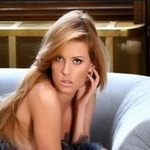Инцест-1
[responsivevoice voice=»Russian Female» buttontext=»Слушать рассказ онлайн»]
Мы лежали под двумя огромными, вековыми кедрами, через густые кроны которых не пробивалось ни одного луча яркого летнего солнца. От высыхающего мха поднималось лёгкое, едва заметное марево. Белки, не обращая на нас внимания, грызли орешки, и сбрасывали на наши головы зелёную скорлупу ещё не созревших плодов. Под ветхим, деревянным, без холмика, крестом — импровизированный стол. На видавшем виды вещевом мешке — водка, сыр, колбаса, огурцы, помидоры, хлеб. Пили, не чокаясь: явно, кого-то поминали. Мы уже заканчивали первую бутылку, но мой визави всё молчал и молчал. Молчал и я. Да первозданная природа этого заброшенного уголка природы и не располагала к весёлой болтовне: угрюмые кедры, заросшая кустарником поляна, которую, за отсутствием тропы, мы еле-еле нашли, разрушенный временем дом с упавшей внутрь него крышей, почерневший, истлевший крест… Меня заманили сюда обещанием рассказать интересную историю и я, зная обычаи коренных сибиряков, не торопил, не задавал вопросов, молчал и ждал… Наконец, моего спутника прорвало, и он начал рассказ.
2
Он так явственно услышал этот голос, что от неожиданности его забил озноб. Кругом было полно народа, люди разговаривали, шумели, смеялись, пели, плясали, кричали, дурачились, кто, как мог, одни играли в мяч, другие с визгом гонялись друг за другом, пытаясь передать «латку», третьи никак не могли оторваться от импровизированного стола, без устали уничтожая спиртные и съестные припасы. Это был самый обыкновенный деревенский уик-энд тех застойных беззаботных времён. Воздух был наполнен ароматом цветущих садов, жужжанием пчёл, пением птиц, шумом и гамом людей, но вся эта какофония звуков была для них тишиной, не способной нарушить покой и умиротворение, ибо в этой невообразимой какофонии он отчётливо услышал единственную, исходящую от неё фразу:
«Боже, какой прелестный мальчик. Как я его хочу!»
Чтобы в их деревне, с её патриархальными устоями, среди огромной массы людей, девушка вот так, во всеуслышание, заявила о своём самом заветном желании — это был нонсенс! И, тем не менее, шокирован он был не этим. Он явственно ощутил, что слова девушки относятся именно к нему, что она не произнесла их вслух, а исторгла из себя каким-то невообразимым способом, так, что никто из стоящих рядом людей их не услышал, они дошли лишь до его сознания, и, ещё не обернувшись на этот голос, он представил её в своём воображении, юную, стройную, красивую, в коротеньком, намного выше колен, цветастом сарафанчике… Но почему — красивую? И ноги тонкие, и коленки острые, и сарафанчик ситцевый, ровно лежащий на плоских, с едва проступающими комочками сосков, грудях. Он видел её сотни раз, встречался с ней ежедневно, каждый раз равнодушно проходя мимо, не обращая на неё внимания, не замечая её красоты. Что должно было произойти, чтобы он вдруг разглядел в ней красавицу? Среднего роста, серые глазки, рыжие волосы, длинные, висящие как плети, руки, едва тронутое ранним весенним загаром веснушчатое лицо… Всё, как у всех подростков… Но она была красива! Ага, вот что… Его заинтриговали её необычные слова
«Боже, какой прелестный мальчик».
И даже не это, а
«Как я его хочу…»
Нет, скорее всего, то, что они не были произнесены вслух, а переданы ему издалека мысленно, через окружающий их шум и гам, и он также мысленно ей ответил:
«Ты тоже прелестна и я тоже тебя хочу».
Но окончательно он потерял голову тогда, когда, услышав её ответ:
«Так что же мы медлим, пойдём скорее в лес, на НАШУ поляну».
Он так явственно представил и тропинку, ведущую по заросшему будяками полю к лесу, и сам лес, внезапно, как стена, начинающийся сразу за полем, и заросшую высокой душистой травой, вдруг ставшую НАШЕЙ, поляну, на которой, он это точно знал, никогда прежде не был — что испугался своего видения, и его охватило недоброе предчувствие. Но ноги, против его воли, уже влекли его за этой серой, невзрачной, ещё не созревшей до женщины девочкой, враз ставшей для него неописуемой красавицей, самой прекрасной из всех красавиц.
Толпа продолжала веселиться, никто не обращал на них внимания, никто ничего не слышал, не видел. Да и что можно было слышать, если они не проронили ни одного слова! Он догнал её, взял за руку, и они пошли по скошенной траве к лесу, не обращая внимания на вдруг притихшую, наблюдающую за ними толпу, ничего не слыша, ни единым словом не нарушая прелести витающей вокруг тишины.
Поле закончилось также внезапно, как начался лес, с изрядно обгоревшими деревьями. Только сейчас он вспомнил, что несколько лет назад здесь был пожар, чтобы остановить его, по лесу прорубили просеку, позже обгорелые пни выкорчевали, вот почему лес имеет теперь такую чёткую границу с полем, никакого молодняка, поле — и сразу огромные, стройные, выросшие в тени, деревья: они даже и теперь ещё не искривили свои стволы, и не распростёрли ветви к солнцу.
«Я даже не знаю её имени», — подумал он, и тут же в его сознании возникло красивое, звучное имя — Александра.
«Странно, что у нас одинаковые имена», — подумал он, и почувствовал её ответ:
«Ничего странного, просто мы две половинки одного целого, у нас одна душа, мы созданы друг для друга, потому и имена у нас одинаковые, и судьбы у нас одинаковые».
«Но почему же мы не встретились раньше?» — возник в его сознании вопрос, и Александра мысленно ответила:
«Потому, что только сегодня мне исполнилось шестнадцать лет»
«А мне — восемнадцать», — хотел сказать Александр, но не успел раскрыть уста, как в его сознании появился её ответ:
«Я знаю. Мне сегодня было откровение свыше».
По узкой лесной тропинке они прошли на небольшую, ярко освещённую солнцем, поляну, по краям засаженную пряно пахнущей цветущей сиренью и Александр подумал, что давным-давно, в далёком детстве, он, кажется, уже видел эту поляну, чувствовал знакомый запах сирени, слышал шум качающихся из стороны в сторону огромных сосен.
«Это я здесь бывала не раз, — вторглась в его мысли Александра. — Ты здесь впервые, а знаешь потому, что я тебе пол часа назад о ней рассказала».
Они стояли друг против друга в центре поляны. Александра расстегнула пуговицы его рубашки, сняла её, бросила на траву. Рядом — майку. Затем расстегнула ремень, спустила брюки. Александр поднял одну ногу, вторую, остался в плавках. Она и их стащила с него, бросила в густую траву. Ни на минуту не задумавшись, без колебаний, сдвинула набок плечики. Сарафан соскользнул на землю, освободив взору Александра её маленькие, ещё не сформировавшиеся груди, гладкую, блестящую на ярком солнце, кожу, слабый, кучерявящийся пушок на лобке. Александра положила руки ему на шею, и завалила его на себя. Их смыла волна счастья
В ней ничего не было от купальщицы, которая осторожно подходит к берегу, пробует воду кончиками пальцев, боязливо ступает одной ногой, другой, заходя всё глубже, позволяя воде постепенно касаться её тела; но в ней также ничего не было от человека, необдуманно бросающегося в холодную воду, чтобы спасти тонущего; она не бросилась, сломя голову, в разгул плоти, а хладнокровно и расчётливо окунулась в экстаз любви, ничего не боясь, не срамясь ни своей наготы, ни его обнажённости, и отдавалась самозабвенно, бурно, не щадя ни сил, ни своего молодого, нежного тела. Подаваясь ему навстречу, она методично изгибала свой тонкий стан. Ни единого слова, только едва слышные вздохи и стоны, из которых, наверное, и был соткан окружающий их цветной природный ковёр. В порыве экстаза она беззвучно шептала слова любви:
«Мой нежный, ласковый, дорогой, любимый, счастье моё ненаглядное» — и лишь однажды, в момент наивысшего наслаждения, она разомкнула губы, чтобы исторгнуть из себя продолжительный, радостный рёв самки, оповещающей мир о том, что в её лоно проникло мужское семя, зародившее в нём новую жизнь.
Она открыла глаза: не серые, какими они ему
показались утром, а два бездонных колодца, наполненных расплавленным серебром, и впервые за этот день Александр услышал её натуральный голос:
— Наконец наши тела и души соединились в нашем ребёнке.
Как это прекрасно!
Они, неспеша, оделись, и вернулись в деревню. Веселье продолжалось. Их толкали со всех сторон, и случайно, и преднамеренно, обсуждали, осуждали, что-то говорили, показывали на них пальцами, улюлюкали, дразнили, людская река увлекла их в свой водоворот, и несла по каменистому скользкому дну деревенского этикета, а они ничего не слышали, никого не видели, не разжимая сжатых рук, ходили среди возмущённой толпы, и лица их светились нежным светом счастья.
3
Хотя Александр жил в другой, соседней деревне, людская молва позаботилась о том, чтобы его отец узнал о случившемся прежде, чем сын вернётся домой.
— Это правда? — спросил он.
— Правда! — всё ещё сияя радостью первой любви, простодушно ответил Александр.
— Я запрещаю тебе с ней встречаться!
— Почему?
— Я не могу тебе объяснить, почему. Ты должен на слово поверить мне и подчиниться. Это очень важно и для тебя, и для меня.
— Но мы созданы друг для друга! Более того, мы с ней родственные души, одно целое! Я не могу с ней расстаться. Наконец, я люблю её!
— И всё же, я тебе запрещаю с ней видеться.
Александр любил отца. Мать свою он не помнил, она умерла, когда ему было три года… Пока отец отбывал наказание в тюрьме, он жил у бабки. Но последние восемь лет они жили вдвоём, никогда не разлучались, души не чаяли друг в друге, авторитет отца для Александра был непререкаем, он никогда ему не возражал, да и отец никогда не шёл против воли сына, во всём потакал ему, баловал, потому что любил, и не раз повторял, что сын — единственное звено, связующее его с этой земной бренной жизнью. И вдруг… Александр ничего не мог понять, а отец ничего не хотел объяснять. Нет, и всё тут!
— Мы слышим друг друга, не разговаривая, — пытался объяснить отцу Александр. — Она только подумает, а я уже знаю, о чём. И отвечаю ей мыслями. За весь день мы не обмолвились ни одним словом, а всё знаем друг о друге!
— Друг о друге вы не знаете ничего. А когда узнаете — сами пожелаете расстаться. Так что, лучше это сделать сейчас, пока отношения ваши не зашли слишком далеко.
— Да уж куда дальше! — перебил отца Александр. — Она говорит, что у нас будет ребёнок.
— Как так можно, вы познакомились сегодня утром! — возмутился отец.
— Забыл сбегать посоветоваться с тобой! — Александр впервые дерзил отцу.
Тот влепил ему пощёчину. Потом надолго задумался… Думал он долго, пока плечи его не опустились до колен, и не начали содрогаться от глухих рыданий. Александр тоже молчал. Он уже пожалел о том, что сказал отцу правду. Наконец, отец принял решение:
— Завтра уезжаешь к бабке. Жить. Насовсем! Окончишь школу, пойдёшь в Армию, а там видно будет… С ней больше не встречайся. Это мой приказ!
Александр долго молчал. Перед ним пролетели все прелести сегодняшнего дня, самого лучшего дня в его жизни. Как всё прекрасно началось! Но перечить отцу он не стал. Уж если он дошёл до мордобоя… В конце концов, пока ничего страшного не произошло. Уезжает он не за границу, а всего лишь в другую область, пол дня езды автобусом… Пока можно смириться, а там отец, гляди, отойдёт… Да и обещаний он ей никаких не давал, совесть чиста… Да чиста ли? Вдруг Александра и в самом деле забеременела? Она будет носить в себе его ребёнка, а он, как трусливый заяц, сбежит, ничего ей не сказав
— Хотя бы проститься я с ней могу?
— Нет, это я тоже тебе запрещаю.
— Но ведь экзамены на носу, ты забыл? Я должен закончить школу.
Отец опять надолго задумался. Не только губы, но и волосы на его голове шевелились, было видно, что решение ему даётся нелегко:
— Ладно, сдавай экзамены. А я позабочусь, чтобы тебя призвали в Армию.
Александр не стал возражать: пока конфликт с отцом разрешился мирно, а дальше будет видно.
4
Мать Александры была ещё непримиримее и категоричнее, чем отец Александра. Излив на дочь весь свой гнев, она не только в категорической форме запретила ей встречаться с Александром, но пошла значительно дальше: пообещала засадить его в тюрьму.
И не просто пообещала, а дала клятву на иконе Божьей Матери исполнить своё обещание. Зная набожность матери, Александра поняла, что дело приняло серьёзный оборот: мать не отступится от своей клятвы. Но она также знала и то, что Александра не за что судить, никакого изнасилования не было, и ничего не понимала, продолжала выяснять с матерью отношения. Но та категорически отказалась ей что-либо объяснять, и уже на грани нервного срыва, запретила ей дальнейшие встречи с Александром, а ссылка Александры на то, что у неё будет ребёнок, только подзадорила мать, и укрепила её решение посадить Александра в тюрьму за изнасилование.
Шестнадцать лет Александра жила вдвоём с матерью, и сколько себя помнила, ни разу не видела её такой взбешенной. А помнила она себя с тех пор, как они тринадцать лет назад приехали в эту деревню на постоянное место жительства. Она не знала ни отца своего, ни бабушек, ни дедушек, мать о них никогда не говорила: нет, и всё. Вдвоём им было хорошо, Александра не представляла, как это — жить с отцом, дедом, бабкой, и не докучала матери своими вопросами. Про встречу с Александром она с радостью рассказала матери, со всеми подробностями, надеясь, что она разделит с ней радость первой любви, и никак не могла понять причину такой реакции.
Мать насильно затащила Александру в больницу, выхлопотала справку о потере девственности, потом сняла копию со свидетельства о рождении, собрала все необходимые документы, пригласила в свидетели «очевидцев», которых нашлось — вся деревня, и передала бумаги в суд. Александр не сдал и половины выпускных экзаменов, как суд приговорил его к семи годам лишения свободы, за изнасилование несовершеннолетней девочки. Как ни пыталась Александра повлиять на ход процесса, ей это не удалось. Мать её, сама опытный юрист, со знанием дел раскрутила судебную машину, и та остановилась только тогда, когда был оглашён окончательный приговор. Суд не учёл ни положительные характеристики подсудимого, ни клятвы Александры в вечной любви, ни даже того, что она подробно рассказала на суде о том, как всё произошло, и по чьей инициативе. А ссылки на то, что они созданы друг для друга, что читают мысли на расстоянии, сочли бредом.
Из района, где проходил суд, домой Александра не вернулась. Она разуверилась в справедливости суда, и готовилась повторить подвиг декабристок. Теперь она обивала пороги судебных инстанций с одной целью: узнать, куда отправят Александра отбывать наказание. Помимо осознания своего предназначения, помимо любви, в дополнение к тому, что под её сердцем билась новая, зачатая вкупе с Александром, жизнь, ею овладело жгучее желание быть с ним рядом, днём и ночью, слиться в единое целое, и никогда не разлучаться, доказать всем окружающим, и в первую очередь — матери, что они не правы!
Отец Александра ничего не сделал для того, чтобы отвратить от сына карающий меч правосудия.
— Всё во власти Бога, — только и твердил он на суде, отвечая на вопросы адвоката.
Перед отъездом Александра навестила его. Он засуетился, не знал, куда её посадить, лицо его озарила некстати появившаяся, как отметила Александра, радостная улыбка… Но взор его потух так же внезапно, как и засиял. Он сник, замкнулся, на её вопросы отвечал односложно, лишь «да» и «нет», «не знаю», «может быть». Из того разговора Александра ничего понять не смогла, ушла, так и не получив ответ на главный вопрос: почему …
им нельзя встречаться? Ведь если бы они поженились, не было бы никакого суда… Он вздрогнул, то ли от слова «поженились», то ли от слова «суда» — она не поняла. Когда Александра выходила, он вскочил, подбежал, обнял, крепко прижал к груди, но тут же, устыдившись своей несдержанности, отпустил её, повернулся и, опустив плечи, ушёл в другую комнату, не попрощавшись, не проводив её до порога, не пожелав счастливого пути.
5
Александра сняла угол рядом с тюрьмой, но к Александру её не пускали: она не была ему ни женой, ни родственницей.
Полгода она была вынуждена издали наблюдать, как её возлюбленного ведут на работу и с работы под охраной и в сопровождении собак. Стоя на обочине дороги она шептала слова любви и преданности, он мысленно отвечал ей, но ответы его с каждым днём становились всё не утешительнее, и она проводила бессонные ночи в муках о любимом. За эти полгода она познала всю мерзость тюремных порядков, узнала, что делают за этой колючей проволокой с теми, кто на воле насиловал несовершеннолетних девочек, и проклинала того, кто наградил её способностью на расстоянии читать мысли любимого человека. А мысли эти, вопреки желанию Александра, бурным потоком изливались на Александру, и были настолько реалистичны в своей жестокости, что обоим причиняли невыносимые страдания. К счастью, слышали они мысли друг друга только на близком расстоянии. Но и придя домой, Александра долго не могла изгнать из своего воспалённого ими мозга ужасные картины издевательств над своим возлюбленным.
Когда пришёл срок рожать, Александра переехала в город, и там сняла комнату. Она твёрдо решила, что родит сына или дочь, дождётся Александра, и они вместе будут воспитывать ребёнка. Но родился и не сын, и не дочь, а что-то среднее между мальчиком и девочкой. Мало того, что ребёнок родился недоношенный, так ещё с приплюснутой головкой, сросшимися ножками и непонятно с чьими половыми признаками… Умер ли он сам, или об этом позаботился медперсонал больницы, но Александра приняла эту весть спокойно: всё во власти Бога. В глубине души она чувствовала несправедливость приговора Бога, по инерции повторившего приговор суда, понимала, что это вопиющая несправедливость — отвратительным уродством закончить так счастливо начавшуюся любовь двух родственных душ, но она понимала также, что это не конец, что впереди ещё целая вечность, она дождётся своего возлюбленного, и у них всё будет: и любовь, и счастье, и дети.
Когда Александра выхлопотала разрешение на посещение тюрьмы, её запросто пустили к Александру. Целый год она мечтала попасть в его объятия, представляла, как радостно это будет, какое счастье они испытают, но всё произошло обыденно и просто. Оставшись наедине, они долго молчали. Александра вспоминала всё то, что произошло с ней за последний год, Александр согласно кивал головой. Но когда он начал вспоминать о своей тюремной жизни, в голове у Александры разгорелся небывалой силы пожар. Она закрывала ему рот, затыкала себе уши, прятала голову под подушку, но он не мог не вспоминать того, что с ним происходило в зоне, а она не могла не слышать его мысли, и когда он закончил свои воспоминания-жалобы, она лежала в изнеможении на жёстких тюремных нарах, не имея сил встать, перевернуться, сопротивляться… По тому, как он грубо вошёл в неё, она поняла, что ему это не нужно, он хочет всего лишь утвердиться в своём чувстве владельца собственности, доказать и ей, и себе, а, скорее всего — ухмыляющемуся охраннику, что она принадлежит ему, что он властен делать с нею всё, что захочет, до её сознания дошло, наконец, что с ним что-то произошло необычное, какая-то ломка, перемена, которую ей, при всей её проницательности, не дано понять, она испугалась своей догадки, ей стало страшно от этого откровения, и когда он закончил свои бессмысленные, с её точки зрения, телодвижения, она ничего не испытала, кроме отвращения, да надсадно-болезненного нытья внизу живота, даже отдалённо не напоминающего то счастливое мгновение, которое она впервые испытала с ним на лесной поляне.
— В этот раз я не забеременела, — только и сказала она.
Пережив этот стресс, Александра полностью лишилась способности слышать мысли своего возлюбленного. Поначалу ей было непривычно ощущать полную тишину: такое впечатление, будто она оглохла. Находясь рядом с Александром, она напрягалась, пыталась услышать его мысли, но ничего не слышала. Она испугалась своего нового состояния, но постепенно привыкла к нему, и стала жить, как все нормальные люди.
Александр не утратил этой способности, ещё некоторое время пытался мысленно говорить с Александрой, но, поняв бессмысленность своих потуг, прекратил. Да и от неё уже не исходил такой насыщенный заряд энергии. Он мог её слышать лишь на очень близком расстоянии, внимательно прислушиваясь, и глядя в глаза. Впрочем, со временем он утратил и это свойство.
Между тем Александре исполнилось восемнадцать лет, она устроилась работать в колонию, и ей разрешили зарегистрировать с Александром брак. Прежней любви между ними уже не было, мысли друг друга они теперь не слышали, и пошли на этот шаг в память о той первой встрече, да ещё чтобы доказать родителям, деревенской толпе, всему обществу, что тогда все они поступили не правильно. Им некуда было отступать, но они даже себе не хотели признаться в том, что их любовь потерпела фиаско, и делали всё возможное, чтобы доказать друг другу обратное. Впрочем, их поступок сыграл им хорошую службу. Видя взаимоотношения молодой пары, начальник колонии сначала расконвоировал Александра и разрешил жить вне зоны, а затем походатайствовал о том, чтобы ему скостили срок: он понимал, что Александр никакой не насильник. Александра воодушевилась этим предложением, принялась бегать по инстанциям, и её труды принесли плоды. Александра освободили досрочно условно.
Они сняли комнату, нашли работу вне зоны, начали жить семьёй, как муж и жена. Но теперь между ними не было не только прежней любви, но и прежнего взаимопонимания, прежних отношений. Мало того, что они утратили способность слышать мысли друг друга — без этого живут миллиарды людей планеты — они вообще перестали понимать друг друга, не хотели понимать, и только схожесть их покладистых характеров не позволяла им ежедневно возбуждаться до скандалов. Но страшнее всего было то, что между ними не было любви, не было того необычайного ночного наслаждения от обладания друг другом, которое одно уже, само по себе, скрашивает серое дневное существование человека, сглаживает конфликты между партнёрами, одно ожидание которого способно укротить гнев мужа и жены… У них отсутствовал оргазм!
Три года прошло с тех пор, как они покинули родные места, но ни отец Александра, ни мать Александры не предприняли ни одной попытки навестить их. Стоило при таких обстоятельствах возвращаться в родные пенаты? Тем более что Александра вновь забеременела. Но, через девять месяцев, опять родился неблагополучный ребёнок.
— Ты всё спрашивал, каким был наш первенец? — спросила мужа Александра. — Можешь полюбоваться, этот точно такой.
Александр взглянул и ужаснулся:
— На нас лежит какое-то проклятие!
Из роддома ребёнка они не забрали. Посоветовавшись с мужем, Александра поехала к матери.
6
— Расскажи мне о себе, мама!
Мать приняла Александру без особой радости, но спокойно, будто они расстались вчера вечером, и между ними не было никакого конфликта. Александра принялась, было, упрекать мать в том, что она не любит её, но та грубо оборвала её:
— Я потому себя так веду, что люблю!
Помня прежние отношения с матерью, сомневаться в её словах Александра не стала. Всю ночь она рассказывала матери историю своей жизни за последние четыре года, а утром попросила:
— Расскажи мне о себе, мама!
Мать прижала её к себе, и надолго умолкла. Александра напомнила о себе:
— Мне двадцать лет. …
Я уже не та девочка в коротком сарафанчике, которую ты знала… Хотя тебе и тогда не удалось меня ни сломить, ни запугать. Я поступила по-своему. И впредь буду поступать так, как сочту нужным… Но я дважды рожала ущербных детёнышей… С чего бы это? И почему вы так упорно пытаетесь нас разлучить?
Мать погладила дочь по голове:
— Ты уже клюёшь носом. Спи. Я схожу на работу, посоветуюсь с отцом. Вечером всё расскажу. Спи!
— С чьим отцом? Твоим, или моим?
— Спи.
Какой к чёрту сон! До сегодняшнего дня она была уверена, что, кроме матери, у неё нет никаких родственников. И вдруг, на тебе — появился какой-то отец! Кто? Откуда? Как? Почему? Чей? И он где-то рядом! Как бы хотелось взглянуть на него, хоть одним глазком… Но глаза её уже слиплись, и она заснула беспокойным сном. Ей снились рассказанные Александром кошмары из тюремной жизни, она ворочалась, стонала, вскакивала, подолгу сидела, и опять впадала в беспокойный сон.
Мать возвратилась задолго до вечера, уставшая, разбитая, видно было, что её мучают угрызения совести от предстоящего разговора с дочерью. Выглядела постаревшей, но лицо её было спокойным, умиротворённым, каким бывает оно после исповеди, перед смертью. Это не ускользнуло от Александры:
— У тебя был трудный день?
— В моей жизни было много трудных дней, даже очень много, их хватило бы на весь наш район… Но сегодня у меня и в самом деле наитруднейший из самых трудных дней.
Александре стало жаль мать. К чему она затеяла этот разговор? Знание правды не всегда облегчает страдания, чаще наоборот, усугубляет их, эти слова в детстве она не раз слышала от матери-юриста.
— Если не хочешь — можешь ничего не говорить. Мне, в сущности, уже всё безразлично. Жизнь не сложилась, назад ничего вернуть нельзя. Никакие оправдания ничего не изменят.
— Нет, я должна тебе рассказать. Хотя бы для того, чтобы ты меня смогла простить.
7
Это случилось более двадцати лет назад, тебя ещё не было. Мы жили тогда на другом конце страны. Я была единственным ребёнком в семье. И мать, и отец меня безумно любили, впрочем, как и все родители любят детей… Своего крёстного, Отца Виктора, я не знала до шестнадцатилетия. Крестили меня в соседнем селе, родители приехали туда одни, и отец Виктор согласился быть моим крёстным. Он исполнил обряд крещения, и тут же забыл обо мне. Когда мне исполнилось шестнадцать лет, у нашей соседки умер муж, и она пригласила отца Виктора отпевать усопшего. Вот тогда он и вспомнил, что я его крестница. Может, сам к нам зашёл, может, мать его пригласила — этого я не знаю, только с того дня он зачастил к нам в гости. Каждый раз, бывая в нашем селе, либо проезжая мимо, он заходил к нам в дом, дёргал меня за косички, трепал за щёки, указательным пальцем оттягивал мою нижнюю губу, и смеялся оттого, что она звонко шлёпала; восхищался моей красотой, и всегда привозил подарки: резиновых кукол, тряпичных мишек, пластмассовых птичек — их у меня набралось два ящика. В нашем селе церкви не было, а он убедил мать, что я должна посещать храм Божий, и я, каждое воскресение, ходила в соседнее село молиться, причащаться, исповедоваться. Иногда он задавал мне такие вопросы, что я выбегала из церкви с горящим лицом. Но мне это нравилось: ведь я служила Богу! Как-то, зайдя в дом, он застал меня в сорочке на голое тело, поднял её, убедился, что я без трусов, и серьёзно сказал:
— Без трусишек ходить негигиенично, да и прелести свои можешь застудить. Так что, нравится тебе это или нет, а трусы надо носить. Кому помешают — снимет!
Я раскраснелась и убежала в свою комнату. Мне было стыдно и приятно одновременно. В школе ребята обзывали Чувихой, били портфелем ниже спины, больно хватали за груди… Отец Виктор был другим, он разговаривал со мной на равных, как с взрослой, и в то же время незаметно учил меня, воспитывал, говорил о таких вещах, о которых я бы ни от кого никогда не услышала… После того случая он, заходя к нам в дом, обнимал меня, нащупывал резинку трусов, проверяя, есть ли они на мне, оттягивал её и отпускал со щелчком. Мне было и больно, и стыдно и в то же время приятно! В следующий раз, как мне показалось, он специально зашёл к нам, когда я была в доме сама, поднял платье, проверил, в трусах ли я, и подарил красивый набор трусов, «недельку».
— Ты девушка взрослая, нельзя допускать, чтобы парень, заглянувший случайно под юбку, увидел такие непривлекательные трусы
Я покраснела, а он легонько ущипнул меня за сосок и удалился, пробыв в доме не более трёх минут… В общем, я влюбилась в него по уши. В церковь бегала и по воскресеньям, и по субботам, и по святым праздникам, службы Отца Виктора слушала, открыв рот, делала всё так, как он проповедовал: училась на отлично, отца и мать слушала, молилась усердно, даже пост соблюдала. Видя такое моё усердие, Отец Виктор пообещал устроить меня на работу в свой приход. Это ли не счастье для молодой девушки! Быть рядом с любимым человеком, ежедневно его видеть, слушать его проповеди, да ещё за это получать деньги. В колхозе для девушки выбор небольшой: либо коров доить, либо в поле, кукурузу полоть. В очередной раз он явился, когда родители уехали в город за покупками. Я одна, дом пуст, а Отец Виктор — красавец, что твой Иисус Христос: кареглазый, чернобровый, глаза смеющиеся, улыбка завораживающая… Я к тому времени Декамерон прочитала, про изгнание дьявола, ему на исповеди о том поведала. Он тогда пошутил, грех, сказал, велик, но удовольствие того стоит, оно величественнее греха, на то мы и есть, сказал, чтобы грехи вам, шалуньям, отпускать. Вошёл, спросил: не хочешь ли в грехах покаяться, как раз перед Пасхой Христовой их лучше всего отпускать. Да у меня, говорю, и грехов-то нет. А он — это не беда, сейчас будут… Снимает он с меня платье, лифчик, трусы — те, из набора. Я хотела придержать их, да вспомнила, что это он их подарил, вроде они как бы не мои, стою, как истукан, никакого сопротивления, Батюшка ведь, святой Отец! Да и игры эти у нас не впервой, я уже к ним приучена… Положил он меня на кровать, без всякого сопротивления с моей стороны… Девчонки пугали: крови много, больно будет… Ничего подобного. Он опытный, очень осторожно всё сделал, мне приятно было, удовольствие — непередаваемое! Не знаю, что на меня нашло, но я его несколько раз на себя затаскивала, не хотела, чтобы этот праздник окончился. Он еле-еле вырвался… А в предпасхальное воскресение грехи мне отпустил. Грех, говорит, не в том, что ты совершила, а в том, что людям известно стало. Я клятву ему дала: никому ни слова, на кресте поклялась! И молчала… Так мы и встречались, сначала у нас дома, потом — в приходе, он устроил-таки меня на лето в храм свечками да книжками торговать. Любила я его больше жизни своей, под пытками никому бы не призналась о наших встречах. Я тогда готовилась в институт поступать, на юрфак. Вступительные экзамены сдала, возвращаюсь домой, вхожу в комнату… На кровати мать лежит, а сверху на ней — Отец Виктор… И стонет, и ойкает, и рычит — всё точно так, как со мной, «единственной, неповторимой, самой любимой, самой лучшей…» У печки топор стоял, я схватила, и рубанула по голове. Сильно ударила, со злостью. На две части разрубила его красивую голову… Он как раз ко мне повернулся, в глазах ни испуга, ни удивления, ни страха, только усмешка… Именно таким я его лицо и помнила… Потом взглянула: один глаз смотрит налево, другой направо, по бороде кровь струится. Села, и сижу на стуле, посреди комнаты, с окровавленным топором в руках. А он только голову склонил, всё на меня смотрит, ухмыляется… Мать из-под него выползла, закрылась в своей комнате. Отец пришёл, всё увидел… Он о моих отношениях с Отцом Виктором не догадывался, думал, что я его порешила из-за отца… Достучался к матери, спокойно с ней поговорил….
Потом отвёз меня к родственникам в областной центр, а сам вернулся, и сдался милиции. Всю вину взял на себя. Я в истерике была, чуть с ума не сошла, в мозгах огонь пылал. Меня заперли и не выпускали, какие-то уколы делали, успокаивающие. Потом узнала — отцу семь лет дали… Возвращаюсь домой — село гудит, отец убил любовника своей жены. А я-то знаю, кто убил и чьего любовника! Какая жизнь после этого? Я уехала, закончила в институт, и по сей день… Мать так ни разу и не видела
— А отца?
— Отец — это отдельный разговор. Я только через два года попала к нему на свидание. Тому было много причин: учёба, зачёты, сессии, экзамены, стройотряды. Денег не хватало на кефир и булочку, не говоря о билете до Томска, где он отбывал наказание. Приходилось подрабатывать уборщицей. Он на строгом режиме был, к нему не пускали… Да и стресс у меня долго не проходил. Такое пережить! Училась хорошо, а как вспомню — дрожь берёт. Он за меня сидит. Как в глаза посмотреть, какой ценой откупиться, чем заплатить за содеянное? Мне бы в суд, да кулаком по столу: я убила Отца Виктора, он мой любовник был! А я… струсила, тюрьмы испугалась… Отцу не хотела говорить, что и я с Отцом Виктором жила, ещё одну душевную рану наносить… Да и очень набожная была, не смела Батюшку опозорить, клятву нарушить. Мало того, что убит на матери, так он ещё и с дочерью спал. В общем, завязалось всё в такой узел, не мне развязать… Наконец успокоилась, пересилила себя, собралась с духом, поехала к отцу. Взятку дала, отпустили его на три дня… Вот, как сейчас с тобой: одну ночь обо мне говорили, другую — о нём. Обо мне — что, у меня всё хорошо. Только на сердце камень лежит, кошки скребут… А так — учусь, да и ладно. Скоро юристом стану. Людей буду судить. А у самой совесть не чиста! Не переживай, говорит, ты за меня отомстила, так что, я просто обязан за тебя отсидеть. В том то и дело, говорю, что Отец Виктор был моим любовником. Я его как увидела с матерью, так и потеряла рассудок, любила я его.
Отец долго молчал, не мог в себя прийти от такой новости, настолько неожиданна она для него оказалась, и весь ход его мыслей перевернула… Вроде и благородный он совершил поступок, за дочь в тюрьму пошёл, но мотивация сейчас сменилась, и ему надо это заново всё переосмыслить… Я в его глазах уже вроде и не героиня, а обыкновенная распутная девка, подстелившаяся под попика… И у матери, ещё до Отца Виктора, были любовники, гуляла она от отца… И у него любовница есть в городе, и сын у них, то есть брат мой трёхлетний. В общем, всё пошло наперекосяк. Трудно было разобраться… Мы с ним три бутылки водки опорожнили, пока разбирались… С одной стороны, ему тут в тюрьме задницу дерут, парашу заставляют выносить, паханам прислуживать… С другой стороны — я уже не девочка, из-за меня он эту самую парашу таскает… И опять же — два года без женщины, а тут я, которая на переменку с матерью под святого Отца Виктора подстилалась… Чем же он хуже? Не знаю, чем руководствовался отец, только я не посмела сопротивляться… Может, пьяная была, а, может, пожалела… Короче, заснули мы с ним в крепких объятиях… А когда вернулась, поняла, что забеременела. Что было делать? Аборты Богом запрещены, на моей совести и так грехов полный воз, чуть добавить — колёса не выдержат… Я хотя и убила Отца Виктора, а в Бога верить не перестала, так глубоко он всадил в меня веру… Решила — всё во власти Бога. И так жизнь перекосилась, пусть дальше косится… Так ты родилась. А когда отец срок отбыл, тайно от всех переехали сюда. Любовницу его убили, когда он в отсидке был, сын у родственников воспитывался… Вернулся, устроился на работу в соседнее село. Так и растили детей, он — сына, я — дочь. О случившемся ни одна душа не догадывается, ибо тот случай был единственный, первый и последний. Да, только, сын его
— Александр? — чуть слышно прошептала Александра.
— Да, сын — Александр, и дочь — Александра. Вы брат и сестра, только от разных матерей. Да, вдобавок, мой отец, также твой отец, и дед одновременно. Вот почему мы не хотели, чтобы вы поженились, препятствовали этому, как могли.
— Надо было сразу об этом сказать, зачем было сажать Александра в тюрьму?
— Сразу — это было всё равно уже тогда, когда ты забеременела, вспомни… Да и как такое сказать своей дочери
О чём ещё можно было с ней говорить? Александра засобиралась в дорогу.
— К отцу зайдёшь попрощаться? — спросила мать.
— Как вы могли! — только и сказала Александра.
Отец выглядел, как побитый пёс. Морщинистый, седой, растрепанный, опустившийся старик. Он сидел на стуле, широко раздвинув ноги, уронив между ними голову так, что руки почти касались пола. Александра подумала, что если бы художник пожелал изобразить унижение, лучшей натуры он бы не нашёл. Старый потёртый халат неопределённого цвета, и синие спортивные штаны с растянутыми коленками, дополняли его жалкий портрет… Они молчали больше часа, мельком бросая друг на друга изучающие взгляды. Разумеется, они не могли слышать мысли друг друга, но оба и без того прекрасно понимали, что у кого на душе. Тогда к чему слова?
Александра встала. Дед-отец, собрав последние силы, медленно поднялся, сделал к ней шаг, но тут же успокоился, остановился в нерешительности, устало опустил руки. Александра, движимая каким-то непонятным ей чувством, подошла, прижалась к нему, и так постояла несколько минут, безуспешно пытаясь ощутить в этом стареющем теле что-то родное для себя, дважды родное, отцовское и дедовское, то, о чём мечтала двадцать лет, но ничего не почувствовала, разжала объятия, и пошла к выходу, не проронив ни слова… Отец засеменил за ней, пока открывала дверь, он догнал её, положил руку на плечо:
— Шурке не говори, он слаб духом, не переживёт.
Александра не сразу поняла, о ком идёт речь, лишь, когда спустилась с крыльца, уловила смысл сказанного, что Шурка — это Александр, его сын, её брат, её муж.
— О том, что вы его в тюрьму засадили?
Александра обернулась, но дверь уже была закрыта, и она так и не поняла, услышал ли он её слова. У неё возникло желание вернуться, высказать ему всё, что накопилось в душе за последние годы, и особенно — за последние дни, но, вспомнив рассказ матери, испугалась самой себя, побоялась повторить её подвиг, совершённый над Отцом Виктором, и, сжав волю в кулак, удалилась.
Всю дорогу Александра не выходила из вагона-ресторана. Она нашла себе болтливую попутчицу, которая двое суток без устали выкладывала ей свои беды, одна страшнее другой. Александра пила маленькими глотками обжигающую жидкость и, не перебивая, слушала, как тяжело живётся людям на этом свете. Она делала глоток, кивала головой, в знак согласия, когда хмель проходил — делала ещё глоток, и так до закрытия ресторана. Потом они брали водку с собой в купе, и их беседа продолжалась. Странная это была беседа, скорее — монолог покинутой женщины, которая, оставшись с тремя детьми, без мужа, без квартиры, без работы, без денег, умудрялась как-то сводить концы с концами, сама не умерла с голоду, и детей сохранила. Чем больше Александра вникала в смысл её рассказа, тем спокойнее становилось у неё на душе. Так получалось, что её положение не так уж и плохо. Вот перед тобою сидит женщина, которой в сто раз хуже, чем тебе, у неё ни мужа, ни квартиры, ни работы, ни родственников, только куча детей, которые просят есть, пить, дать им нечего, и остаётся только плакать, да пропивать последние гроши. А у тебя — всё наоборот. Есть муж, какая никакая комнатушка, работа, мать, отец, дед… И дети есть не просят… Александра вылила за окно остатки водки, пересчитала деньги, оставила себе на дорогу, остальные отдала попутчице:
— На, купишь …
детям еды. А то мне рядом с тобой стыдно находиться, такая я счастливая. У тебя вон, сколько горя, а у меня всё о’кей.
8
Вернувшись домой, Александра застала мужа живым, здоровым и весёлым. Квартира была полна народа. Освободившиеся кореша, лишённые права возвращаться в родные места, поселились у Александра в количестве пяти человек. Разумеется, никто из них не работал, перебивались тем, что Бог пошлёт, а Бог посылал в основном выпивку и закуску. Александра вынесла из квартиры несколько вёдер мусора, вымыла полы, прибрала, приготовила обед, легла с дороги отдохнуть. Но какой отдых, когда рядом, за столом, пьяная компания режется в очко. К её удивлению, на ночь никто из них не собирался уходить.
— Мы что, так и будем жить семеро в этой комнатушке?
В комнате воцарилась тишина. Александр и сам понимал нелепость создавшегося положения. Он пустил корешей посидеть-поговорить, выпить-закусить, они зашли, живут уже вторую неделю, и уходить не думают. Страшнее всего, что с ними «Пахан», от одного взгляда которого в зоне все сворачивались в клубок, дальновидный «Пахан», который, в своё время, оградил Александра от наиболее рьяных педерастов, не дал им вконец порвать его сфинктер, за что Александр был ему благодарен, навек обязан, и хотя бы в благодарность за это, не мог его выгнать, не говоря уже о том, что жутко боялся его
— Уже поздно, сегодня никто никуда не пойдёт, а завтра разберёмся, — сказал «Пахан», и все, как по команде, разом замолчали.
Только сейчас, бросив взгляд на мужа, и сравнив его с корешами, Александра поняла, как сильно он изменился. От ТОГО Александра не осталось ничего. Он подрос, возмужал, но и похудел, изменились его осанка, походка, повадки, жесты, манера говорить. Это не бросалось в глаза, когда они были вдвоём. Но сейчас он ничем не выделялся из этой серой однородной толпы шаромыжников, более того, среди них, как раз, именно он являлся самым ярким представителем тюремной шарашки. Жажда безукоризненно подчиняться всем подряд сквозила в каждом его жесте, в каждом движении, в каждом слове. Достаточно было кому-нибудь бросить на него мимолётный взгляд, как он тут же склонялся в подобострастном поклоне, всем своим видом показывая готовность к услужению. Поймав взгляд Александры, он натягивал на лицо улыбку, пытаясь перевести своё плебейское поведение в шутку, но слишком хорошо знала Александра того, прежнего Александра, чтобы он мог её таким образом обмануть.
«Интересно, как далеко он может пойти в своём унижении?», — подумала Александра, но долго размышлять над этим вопросом ей не пришлось.
«Пахан» без обиняков обратился к Александру:
— Ну, что, корешок, пора платить долги!
Александр не шелохнулся. «Пахан» взял Александру, как пушинку, на руки, и перенёс на кровать. Несмотря на огромный рост, и хрипловатый, тюремный голос, движения его были грациозны, руки нежны, прикосновения ласковы. Он бережно раздел Александру, и осторожно вошёл в неё… В комнате горел свет, за столом несколько мужиков играли в карты, спорили, кричали, ругались, рядом стоял муж, но истосковавшаяся по мужскому телу Александра, не предпринимая никаких попыток к сопротивлению, бурно отдавалась «Пахану» на узкой солдатской койке, с провисающими до пола пружинами… Александр вышел в коридор… «Пахан» занимался с ней любовью долго, очень долго, до тех пор, пока оба не обессилели. Александра в изнеможении застыла в неудобной позе, не в силах повернуться.
— Молодец, хорошая у тебя баба, — сказал «Пахан» вошедшему Александру.
Александр, стараясь ему угодить, деланно усмехнулся, хихикал до тех пор, пока не обжёгся о взгляд Александры.
Утром вчерашний уговор был забыт, и уходить никто не собирался. Александра вынуждена была не только мыться, но и, ввиду отсутствия удобств, справлять естественные надобности в кругу «друзей» мужа. При «Пахане» к ней никто не лез, но когда его в комнате не было, любой, пришедший раньше других, имел на неё право, и отказывать было бессмысленно: за время отсидки Александр всем им задолжал, и теперь расплачивался с ними телом жены. Когда очередь дошла до него, Александра открылась ему:
— Сделай стоп, мальчик. Сядь и послушай. Я расскажу тебе и о том, почему мы читали мысли друг друга, и о том, почему у нас родилось двое уродцев, и почему я, не будучи ни блядью, ни проституткой, ни, даже, просто распутной женщиной, при тебе сплю с другими мужиками… Моя мать — дочь твоего отца. Ты слышал что-нибудь об инцесте?
— Выходит, я её брат, а ты моя племянница.
— Пока ещё ни фига не выходит, — перебила его Александра. — Выйдет тогда, когда ты узнаешь, что я — тоже дочь твоего отца. Да, да, не смотри на меня такими глазами! Он переспал со своей дочкой и заделал меня, когда у него уже был ты от другой женщины. Так что я не только твоя племянница, но и сестра
— Но ведь можно было аборт сделать!
— Чтобы меня на свете не было? Да? Ты это хотел сказать? Ничего себе братик! Сначала им надо было не трахаться, а уж потом — аборт. Но, после драки кулаками не машут. Они сделали одну глупость — потрахались, потом вторую — родили меня. Всё бы ничего, как-нибудь сошло бы, но они сделали третью глупость — скрыли это от нас. Постеснялись сказать… Очень чувствительными натурами оказались… Четвёртая глупость сама собой получилась, как результат трёх первых. Это когда они тебя решили со мной разлучить, и ничего лучше не придумали, как засадить тебя в тюрьму… Съезди, скажи им за это спасибо.
— Этого не может быть. Отец так меня любил!
— Не может… но есть. Так что, мы с тобой больше не муж и жена, а, считай, как хочешь: брат и сестра, дядя и племянница… Больше ко мне не прикасайся, и к этим — она указала на идущих за окном квартирантов, — не ревнуй.
Он и не ревновал. Не решаясь спросить его, Александра мучилась в догадках: была ли она безразлична ему раньше, или это чувство появилось у него в тюрьме? Та, счастливая жизнь, пролетела так быстро, что она не успела разобраться ни в своих чувствах, ни в его, то была одна огромная любовь, без всяких оттенков, им было тогда не до ревности, они не замечали никого, и ревновать было не к кому, Бог свёл их на мгновение на маленьком пятачке земли, соединил воедино, и им недосуг было разбираться в своих чувствах. Другое дело — теперь, когда полон дом мужиков: её так и подмывало спросить его о таком чувстве, как ревность… Да что спрашивать, если он сам подсовывает её под каждого встречного за стакан водки и кусок колбасы, и так понятно, что ему на неё наплевать
Но «Пахан» был другого характера. Застав Александру в постели с одним из своих корешей, он вышвырнул его голым за дверь:
— Тебе мало меня? — спросил он.
— Более чем достаточно, — сказала Александра, и надолго умолкла.
Лоб её морщили какие-то мысли.
— Пой дальше, птичка, — «Пахан» с улыбкой разгладил на её лбу морщинки.
— Ты хороший, нежный, ласковый. Мне с тобой приятно… Ни с кем так не бывает, как с тобой. Ты лучше всех!
— Лучше кого?
— Я не могу отказать твоим дружкам. Они такие грубияны, все с ножами, я их боюсь.
— Больше ты их никогда не увидишь.
Он взял её на руки, вальсом прошёлся по маленькой комнатушке, и надолго уложил в кровать… Александре и в самом деле было с ним хорошо. И ему, она это чувствовала, тоже. Но важнее всего было то, что — она это тоже чувствовала — ему, в отличие от Александра, это было нужно!
«Пахан» сдержал своё слово — его кореша покинули их комнату, и больше не появлялись. Для Александры началась тихая, спокойная жизнь. Где «Пахан» брал деньги — она не интересовалась, но обеспечивал он её всем необходимым …
с избытком. Александр где-то работал, что-то зарабатывал — это Александру тоже не интересовало. «Пахан» в их отношения не вникал, в душу ей не лез, при Александре её не трогал. У неё не раз возникала мысль поговорить с ним на тему своей судьбы, но всякий раз она не решалась на это: у «Пахана» и своих забот достаточно, своего горя с лихвой, зачем ему ещё её несчастья! Но, оказалось — Александр ей по пьянке открылся — «Пахан» знает всю её историю от Александра, потому и любит её, потому и жалеет, и относится хорошо, пытается как-то облегчить её жизнь. Он правильно рассудил, что жить как муж и жена им нельзя, и выгонять Александра тоже нельзя. Так и жили они втроём, друг другу не мешая.
К великому сожалению Александры, через год «Пахана» вновь «замели». Случилось это после того, как освободился «Вождь», нашёл на воле дружков «Пахана», те поведали ему о безотказной красавице Александре и жестоком «Пахане», который выгнал их из квартиры. «Вождь», в зоне постоянно конфликтовавший с «Паханом», и имевший на него «зуб», быстро вычислил источники его благосостояния, и убрал с дороги. «Вождь» привёл с собой компанию, правда, поменьше, из трёх освободившихся с ним «зэков». Выходило так, что Александр в своё время задолжал и им, а расплачиваться мог только телом Александры.
«Вождь» был злой, грубый, причинял Александре физическую боль, заставлял её спать со своими дружками, развратничал, при этом все улюлюкали, гоготали, ржали, поучали друг друга, как правильнее «это» делать. Душевные страдания Александры были ещё невыносимее, чем физические. А безвольный Александр, мало того, что безропотно сносил все оскорбления и обиды, так ещё изо всех сил старался услужить, и выглядел жалким слизняком. Александра была на грани срыва. Уйти было некуда, с Александром жить нельзя, и оставить она его не могла. Что он без неё? Всё-таки — брат! В её голове всё смешалось.
Как-то Александр вбежал запыхавшийся: обгонял своих дружков.
— Сегодня у «Вождя» день рождения, он хочет, чтобы ты показала концерт.
— Какой ещё концерт?
— Ты разденешься наголо, и спрячешься в шкафу. А когда они напьются, я тебя выпущу. Будешь танцевать на столе.
У него был жалкий, просящий вид. Что оставалось делать? Александра сжалилась над ним, разделась, накинула халат, но, в последний момент, когда Александр пошёл открывать дверь, схватила топор, и прыгнула в шкаф. Квартиранты принесли ящик водки, закуску, и уселись за стол чествовать «Вождя». Сидели они долго. Пили, ели, поминутно горланили «Сиреневый туман». Продрогшая Александра подумала, что о ней забыли, но Александр, словно учуяв её мысли, сказал:
— «Вождь», может, пора концерт начинать?
— Концерт. Концерт, пора, начинай, — закричали пьяные голоса.
Александр подошёл к шкафу, но его остановил «Вождь»:
— Сегодня твоя очередь. Ты всё сачкуешь, да сачкуешь. Сегодня ты будешь трахать свою жену. А то всё мы, да мы, — сказал он, и сорвал с Александра рубаху. — А ну-ка, снимите с него штаны!
— Штаны, штаны, — хором орали «зэки».
— Но раньше я трахну тебя! — вскричал «Вождь», увидевший голого Александра, — вон у тебя какая сладостная жопка, — и все радостно заржали.
Александра услышала вопль брата. Распахнув дверь шкафа, она увидела такую картину: поперёк заваленного объедками стола лежал Александр. Стол был узкий, так что руки его свешивались по ту сторону стола, а ноги — по эту. Сзади стоял «Вождь», и совершал своё гнусное действо. Его кореша хлопали в ладоши, ходили вокруг стола, танцуя греческий танец «Сиртаки». Все они были голые… «Вождь» увидел Александру, отошёл от стола, дал команду поставить Александра на ноги, подвёл его к шкафу:
— Теперь твоя очередь, ты её будешь трахать, а мы — смотреть.
Александра похолодела. Её бил озноб. Перед ней стоял её некогда любимый Александр, самый тощий из всех, самый невзрачный, самый трусливый, самый униженный… По его ноге стекала струйка крови. В то время как его кореша с гордостью выпячивали вперёд огромных размеров мужские достоинства, вздувшиеся от вожделения, у Александра, под лобком, покоился маленький, сморщенный огуречик. Даже не будь он её братом, сама мысль о совокуплении с ним была бы для неё отвратительна.
«Ведь в одной тюрьме сидели, почему он такой?» — подумала Александра
Подбадриваемый корешами, Александр робко шагнул к ней. Он и в этом не может им отказать! Александра взмахнула топором, и разделила его череп на две равные части… Кореша его вмиг протрезвели, их как ветром сдуло. Александра оделась и, не взглянув на Александра, пошла в колонию. Там её знали, помнили, и без лишних формальностей устроили встречу с «Паханом». Он сразу почувствовал происшедшую в ней перемену:
— Произошло что-то серьёзное?
— Я убила Александра.
— Кому об этом известно?
— У нас жил «Вождь», и три его кореша. Они сразу смылись.
— Деньги у тебя есть? Ах, да, откуда они у тебя. Я знал всё про «Вождя», это по его наводке меня упрятали. Хотел надрать ему задницу, да выйти никак не получалось. Но теперь выйду. Пришло время.
Он протянул ей пачку денег:
— Домой не заходи. Отсюда — прямо на станцию. Возьмёшь билет до Панкратовки, автобусом доедешь до Лесного, там сядешь на товарняк до сплавконторы. Спросишь, как пройти на Прохорову заимку… Запомнила? Там жди меня. Я с «Вождём» поквитаюсь, и приеду к тебе.
— Плюнь ты на «Вождя»! У меня от тебя ребёнок будет!
— За ребёнка — спасибо. Это для меня радостный подарок. Но «Вождю» предательства простить не могу, — он поцеловал её, и проводил из камеры.
Через неделю Александра была на Прохоровой заимке. Хозяин, степенный мужик лет пятидесяти, из «бывших», принял её радушно. Жил он один, не с кем словом перемолвиться. Расспросил про «Пахана», и больше с вопросами к Александре не лез. Рассказывал ей разные байки о столице, в которой некогда жил, о московской элите, которая в подмётки не годится некоторым «зэкам», о женщинах, о своих любовных похождениях. Но Александру не трогал, чтил авторитет «Пахана». Видимо, связывало их в прошлом нечто такое, через что он не мог переступить.
— «Пахан» — мужик! — говорил он. — А «Вождь» — сволочь».
Александра и сама знала это, и соглашалась с ним.
Через два месяца посланник от «Пахана» принёс деньги, много денег. Выпил два стакана водки, помолчал, потом сказал:
— Мы бежали вдвоём. По пути навестили «Вождя». Ему бы сразу его «пёрышком», а он стал лекции читать… Ну, вы же знаете «Пахана». У него раньше кликуха была — «Интеллигент». Это позже он «Паханом» стал.
— Обо мне «Вождю» говорил? — спросила Александра.
— О тебе! Перед смертью хотел воспитать подонка, да подонок, он подонок и есть, хоть в тюрьме, хоть на свободе. Усадил «Пахана» за стол, принёс бутылку, да ею голову и рассёк. Я его, конечно, успел пописать, но, и «Пахан» у меня на руках умер. Просил извиниться перед тобой и, вот, деньги передал… Виноват — похоронить не смог, надо было делать ноги
Александра разволновалась, расплакалась. Хозяину заимки понравилось: женщина плачет по «зэку»! Сели за стол, помянули. Потом Александра вздумала похоронить «Пахана» по христианскому обычаю. Устроили похороны. Насыпали холмик, поставили крест, оформили могилку. Красивое такое место, между двух огромных кедрачей… Опять помянули. Посланник «Пахана» предложил отвезти Александру, куда пожелает. Она вопросительно взглянула на хозяина заимки. Тот втянул голову в плечи, развёл руками: решай, дескать, сама. Александра осталась. Через четыре месяца в этой самой избе родился я, ваш покорный слуга!
9
Я не перебил своего собеседника ни единым словом. Ночь заканчивалась. Небо на востоке посветлело. В кронах запели, засвистали птицы. По его просьбе, я должен был описать эту историю. У меня, как у журналиста, была сотня вопросов. Но я понимал: человек поведал мне и так слишком много, поведал то, что хотел, что мог, что было позволено мне знать. Какие ещё могут быть вопросы! Уловив мои колебания, он первый нарушил молчание:
— Это импровизированная могила «Пахана», он спас тогда мою мать!
— Из твоего рассказа я это понял, — сказал я, и замолчал.
— Ты хочешь знать историю до конца? — спросил он.
— У истории не бывает конца! — ответил я фразой из конспекта.
— Это точно! Как любая другая история, эта тоже ещё не закончена. Отец мой, считай, похоронен здесь… Александр — где-то на зоне, слышал, его «зэки» хоронили… Мой дед-прадед умер… А мать — жива, здорова, в данный момент едет к своей непутёвой матери… Но это уже другая история.
***
Николай Фёдорович Шунькин
Автор: Николай Фёдорович Шунькин (http://sexytales.org)
[/responsivevoice]
Category: Инцест