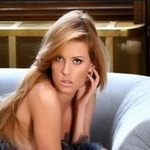Бремя любви Часть 4
[responsivevoice voice=»Russian Female» buttontext=»Слушать рассказ онлайн»]Максим дурачится, и Андрей, подыгрывая ему, дурачится тоже — скорбно кивает головой:
— Выходит, что так — что вы, товарищ сержант, начиная свою доблестную, как вам сейчас кажется, службу, были в тот полный заблуждений период своей молодой жизни слишком наивны… нет, мы, конечно, можем кое-что… ещё как можем! Но мы — обычные парни в камуфляже, и не наше дело — ломать замшелые стереотипы в отдельно взятой воинской части… — говоря это, Андрей хочет посмотреть на часы, чтоб узнать, сколько минут остаётся до вечерней прогулки, но надобность в этом отпадает сама собой: из дверей казармы, толкая друг друга, выскакивают будущие солдаты, и Андрей, непроизвольно ища глазами Игоря, усмехается: — Вон — птенцы на прогулку летят… будут песню нам, старым, петь перед сном. Идём — поприсутствуем…
— Ага, они сейчас, бля, споют… как у этого, бля… у Пушкина: «Чей там стон на Руси раздаётся? Этот стон у нас песней зовётся!» — Макс, говоря это, тихо смеётся.
— Сам ты, бля, Пушкин! — смеётся Андрей.
Рота молодого пополнения бестолково строится и, не в ногу маршируя в бледно-молочном свете фонарей, с песней шагает вокруг казармы, причем песня исполняется так, что слова этой песни — как, впрочем, и мелодия — угадываются с большим трудом, — рота молодого пополнения, то и дело понукаемая с двух сторон резкими сержантскими голосами, делает вокруг казармы круг за кругом — рота молодого пополнения совершает то, что на суровом языке Устава называется вечерней прогулкой.
— Юрчик, бля! — кричит проходящий в стороне боец — парень в форме рядового. — Что вы их водите, как баранов? Их, бля, ебать надо — дрючить на всю катушку, а вы… положите их на землю, и — по-пластунски… с песней по-пластунски — вмиг, бля, шагать научатся!
Голос рядового, проходящего мимо, звучит в весенних сумерках уверенно, бесшабашно и весело, и Юрчик — командира первого взвода — отзывается в ответ так же весело и так же громко:
— Дима, привет! Что в роте у нас нового?
— А хуй его знает! Я на аккорде четвёртый день — в роте почти не бываю… А запахов, бля, ебите — не жалейте! Пусть, бля, привыкают!
Махнув рукой, парень в форме рядового исчезает за углом, — рота молодого пополнения, поравнявшись с входом в казарму, невольно замедляет шаг, но команды «стой!» не слышится, и рота, не в ногу шагая, с песней уходит на очередной круг… будущие солдаты совершают вечернюю прогулку — с песней «гуляют» на свежем воздухе, и каждый, идущий в строю, невольно думает о том мимолётном диалоге, что весело прозвучал в зыбких весенних сумерках, — выдыхая слова патриотической песни, каждый думает о словах неизвестного им Дима, который фантомом возник-исчез на исходе еще одного армейского дня…
— Отставить песню! Рота-а-а, стой! Через пять минут — строиться на вечернюю поверку! Разойдись!
Слова Юрчика — командира первого взвода — звучат громко, уверенно, беспрекословно: сержант не делает пауз между командами, и оттого все слова команд выстраиваются в одно напористо бьющее по ушам предложение, так что между словами не остаётся ни малейшего зазора, чтоб хотя бы на миг задуматься, — властно звучащий голос сержанта направляет, давит, подстёгивает, отметая саму мысль сделать что-либо не так, как это приказано. И так — напористо и властно — командует не только Юрчик. Так командуют все сержанты — командиры отделений.
Будущие солдаты, толкая друг друга, исчезают в дверях казармы, — словно живое существо, казарма стремительно всасывает в своё чрево молодое пополнение, так что буквально через минуту перед сходом в казарму не остаётся никого.
— Завтра дрючим их на плацу — сокращаем свободное время, — говорит Юрчик не спешащим в расположение сержантам, в качестве командиров-наставников прикомандированным, как и он сам, к роте молодого пополнения. — С учетом этого, парни, планируйте свои наказания. А то, блин… полный отстой! С завтрашнего дня начинаем гонять по полной программе. Я с капитаном этот вопрос согласую.
— Может, сегодня их вздрючим — потанцуем «отбой-подъём»… — то ли спрашивает, то ли предлагает командир отделения — черноглазый невысокий Владик; этому Владику, прикомандированному к роте молодого пополнения из автобата, служить еще полгода, и потому он, «стариком» ставший совсем недавно, держится по отношению к дембелям с положенной предупредительностью — не заискивает, не прогибается, но место своё, определяемое внеуставной иерархией, знает четко.
— Хм, какой ты кровожадный… — глядя на Владика, смеётся Артём — командир второго взвода. — Дрючить кого-либо — занятие, конечно, увлекательное, и не только увлекательное, но для иных даже жизненно необходимое — в смысле самоутверждения… особенно, когда ты знаешь, что овца, которую ты дрючишь, сдачи тебе не даст. Но такая дрючка, как правило, происходит не от большого ума и уж тем более не от настоящей силы. А потому дрючить, товарищ младший сержант, нужно осмысленно — дрючить нужно за что-то совершенно конкретное, чтобы тот, на ком ты свои командирские позывы жаждешь поупражнять, четко знал, в чем его провинность… это во-первых. И во-вторых… — Артём — полноценный дембель и потому говорит всё это Владику неспешно, веско, с лёгким налётом отеческого поучения, — во-вторых: провинность должна быть связана с невыполнением положений Устава или распорядка дня — тогда дрючка, адекватная проступку, не только допустима, но даже необходима. В противном случае — возникает неуставщина… товарищ младший сержант.
— Дык… я что? Я ж хочу, чтобы было как лучше, — вмиг отзывается Владик, и сразу видно, что «старик» он ещё совсем молодой.
— Вот-вот! Все хотят, чтобы было как лучше, а выходит, бля… выходит — как всегда. И отчего так выходит, никто не знает.
— А чего здесь знать? — отзывается Толик, прикомандированный к роте молодого пополнения из роты обеспечения. — Нас, когда мы в роту из «карантина» пришли, ебали полгода по-черному… было нас пять «слонов», и летали мы все пятеро от рассвета до рассвета… ну, понятно! Все, бля, летают… так вот: сколько раз мы тогда, в умывальнике кровью отхаркиваясь, искренне говорили друг другу, что сами, когда «постареем», никого пальцем не тронем… и что?»Постарели»… захожу я в умывальник после отбоя, а Валерка, друг мой лучший, метелит ногами салабона, только-только пришедшего с кэ-эм-бэ… я — к нему! Отшвырнул его в сторону. «Помнишь, — кричу, — что мы обещали друг другу? Что мы, когда постареем, козлами не будем! Помнишь?», а он мне в ответ: «Ты ничего не понимаешь! Это — система, и не нам её менять!» Сцепились — орём друг на друга… одним словом, чуть не подрались — в том самом умывальнике, где нас самих ещё не так давно сапогами швыряли из угла в угол… — Толик рассказывает всё это легко, как рассказывают анекдоты, но видно, что история эта для него — не пустой звук. — Салабон приподнялся с пола — смотрит на нас, кровь вытирая, и никак понять не может, в чем его, салажья, ценность, что два сержанта — два «старика» — из-за него, как ненормальные, один одного за грудки трясут…
История эта, рассказанная немногословным Толиком, сержантом из роты материального обеспечения, неожиданно производит впечатление — и вовсе не содержанием, поскольку в содержании всё для всех узнаваемо, а впечатляет та внезапная искренность, с какой Толик всё это рассказывает: за напускной лёгкостью вдруг отчетливо слышатся почти забытые человеческие интонации, и это так неожиданно, что на какой-то миг воцаряется молчание.
— Ну, допустим, сцепились два сержанта — два «старика» — вовсе не из-за салажонка… — нарушая молчание, говорит Андрей.
— Допустим, — кивает Толик. Он мимолетно смотрит на Андрея, и во взгляде его Андрей улавливает мелькнувшее удивление… удивление, вызванное тем, что он, Андрей, увидел в этой истории что-то еще — такое, о чем Толик говорить совершенно не предполагал. — Так вот… я к чему обо всём об этом рассказал? Пока «слонам» было плохо, они искренне думали, что, когда они «постареют», они обязательно сделают «как лучше», а потом они, «слоны» эти, стали «дедушками», и всё получилось — «как всегда»… и Валерка, с которым мы сопли кровавые по ночам смывали, которого я считал своим другом, мне кричит, что это система и что я буду последним лохом, если в систему эту, не нами придуманную, не стану вписываться… вот я о чём! Он кричит мне «система!», и он — прав: это — система! И она не только в армии — она везде: поднимаются люди снизу вверх и тут же напрочь забывают, что делается внизу, и чем выше они поднимаются, тем короче у них становится память… сытый голодному не внимает.
— Подожди! — Юрчик, перебивая Толика, лезет в карман за сигаретами. — Система, да! Но… ты скажи, Толян: ты сам — ебал «молодых»? Сам лично — бил их после отбоя? Ставил на счетчик? Заставлял себя обслуживать?
— Нет, — отзывается Толик.
— Вот! И я, будучи «старым», ни одного салабона не ударил! И ни разу никого не заставил заправлять мне койку! И не стирали мне ни разу ни носки, ни трусы! И никого и никогда я не доил на деньги… а я ведь тоже в системе — в этой самой системе! Значит, что получается? Дело не в системе? — Видно, что Юрчика эта тема задела, зацепила, и он, глядя на Толика, говорит всё это напористо, энергично, словно ему возражают, а он, отбиваясь, спорит.
— Дело не в системе… точнее, не только в системе — дело здесь, парни, в самом человеке, — рассудительно говорит Андрей. — Всё зависит от каждого персонально, и кто-то — систему эту принимает как должное, в ней растворяется, сам становится её частью, а кто-то — системе сопротивляется… в меру сил и возможностей. Всё, в конечном счете, зависит от каждого конкретного человека…
— Вот! — перебивая Андрея, вновь подхватывает Юрчик. — Андрюха правильно говорит! У человека должен быть стержень — свой, собственный… и тогда никакая система тебя не сломает — под себя, как овцу, не подомнёт!
— Ой, как у вас всё просто… — переводя взгляд с Юрчика на Андрея, хмыкает Максим. — Стержень, бля… как же! А если в стержне этом — в самом человеке — изначально заложена неосознаваемая им самим тяга к мазохизму-садизму?»Молодой» — страдает… так? Так. Его бьют, ставят раком, делают рабом, но он не посылает всё это на хуй — он страдает и, страдая, принимает это как должное, оправдывая свои страдания системой, а едва становится «стариком», как в нём тут же открывается новая грань, и он уже искренне тащится от своей безграничной власти — сам свирепствует, сам ставит кого-то раком или заставляет пацана, только призвавшегося, стирать свои носки-трусы, и снова всё это оправдывает системой… типа «сам я белый и пушистый, а никуда не годная система меня, бедного, вынуждает быть злым и нехорошим»… очень, бля, удобно, чтоб скрыть свой личный — гнилой — «стержень»! Изначально гнилой…
— Ну… есть, наверное, и такие, кто действительно тащится… сам по себе тащится — вне зависимости от системы. Но это уже клиника, и таких — единицы. А в массе своей — все остальные, которые…
— В массе своей — тащатся все, — перебивая Юрчика, ёрничает Максим. — А те, кто не тащится…
— Те, кто не тащится, служат на данный момент в роте молодого пополнения, — перебивая Максима, флегматично произносит Артём.
Ловким щелчком он отправляет окурок в стоящую у входа в казарму урну. — Всё, парни, идём на поверку! Еще будет время — договорим…
[/responsivevoice]
Category: Гомосексуалы