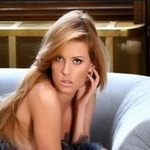Ваня и Ростик Часть 2
[responsivevoice voice=»Russian Female» buttontext=»Слушать рассказ онлайн»]А Ваня по причине своей некоторой взрослости был уже немножко разгильдяем и потому, воспользовавшись отсутствием мамы и папы, решил в свой технический колледж за новыми знаниями не идти, а остаться дома и полежать — послушать музыку. И поскольку Ваня был уже в некотором роде человеком взрослым, то, понятное дело, сделал он так, как решил, а именно: закрыл за Ростиком дверь, вернулся назад в свою комнату, надел наушники и стал слушать музыку бури и натиска, закрыв для лучшей восприимчивости глаза. «Конечно, — думал Ваня, слушая музыку бури и натиска, — ничего такого не было и быть не могло, чтобы в бессознательном состоянии сна я что-то с Ростиком делал, а пялится Ростик куда не надо по своей малолетней дурости, и ничего более… у самого уже по утрам стоит — вот он, бычара, и сравнивает-глазеет». Успокоил Ваня себя этой мыслью и стал сон вспоминать, что, конечно, было во всех отношениях куда приятнее, чем думать-размышлять о маленьком Ростике, а как только стал он сон вспоминать, так сразу почувствовал, как у него петушок встрепенулся, — и Ваня, недолго думая, приспустил с себя домашние брюки и стал, лёжа на постели, со своим петушком неторопливо играть и, одновременно продолжая слушать музыку бури и натиска, стал анализировать свои эротические пристрастия… А анализировать, в общем-то, было что. Ване было уже шестнадцать лет — в феврале шестнадцать исполнилось, двенадцатого числа. А в декабре, точнее, в ночь с тридцать первого декабря на первое января, Ване было еще пятнадцать лет, но он уже был студентом первого курса технического колледжа, и мама и папа разрешили ему, то есть Ване, встретить Новый год в общежитии, где собиралась почти вся группа, в которой Ваня учился. Вот там-то все и случилось…
И здесь мы, читатель, скажем сразу: Новый год получился на славу! В одной из комнат на четвертом этаже поставили два стола, на столах в одноразовых тарелках и блюдцах разложили всякую пищу, но самое главное — на столы поставили бутылки с вином и водкой, и если пищи было не очень много, то вина и водки было куплено с запасом. Собралось человек тринадцать, и хотя в комнате за двумя столами тесно было, но зато весело было и было более чем демократично… кстати, само это общежитие располагается на улице Заря Демократии… так вот: в других комнатах на том же четвертом этаже, а также на этажах третьем и втором другие студенты делали точно так же, и когда все немного выпили и немного «окосели», то стали ходить в гости из комнаты в комнату и с этажа на этаж и все вскоре совершенно перемешались — по коридорам бродят, шатаются, обнимаются и в каждой комнате пьют то, что на столе стоит… одним словом, праздник! А еще в каждой комнате, где были столы накрыты, играла своя музыка, и поэтому дискотеки возникли стихийно и даже прямо в коридорах — на всех трех этажах своя дискотека. А на первом этаже студенты не жили, а были душевые и всякие другие вспомогательные помещения, и еще на первом этаже по случаю торжества сидел представитель городских Внутренних Органов, но он праздновать праздник студентам не мешал, а сидел исключительно для того, чтобы вмешаться, если начнется драка с саблями или кого-то станут уж совсем неприглядно насиловать… И вот где-то уже во втором часу, когда ряды торжествующих хотя и чуть поредели по причине невозможности продолжать торжествовать дальше, но все равно торжество еще продолжалось и даже бурлило, подбегает к Ване Серега, друг его закадычный, и волнующе кричит, употребляя при этом простонародные выражения: «Где ты, блядь, шоркаешься? Пойдем! Там из девятой группы Райка лежит — у Ромика в комнате, пьяная в жопу! Ее сейчас Ромик уже ебет, а мы с тобой будем за ним — пойдем скорей!» Забилось у Вани сердце в груди — вот она, настоящая жизнь! Спустились они на второй этаж, и только Серега хотел постучать условно в одну из дверей, где Райку ебут, как дверь вдруг сама открылась, и из комнаты вышел Ромик.
«А, — говорит, — вы уже здесь!» «Ну, что, что? — забросал тут же опытный в этих делах Серега друга своего, Ромика, нетерпеливыми вопросами. — Ты отодрал её? Дала?» А Ромик в ответ: «А кто ее спрашивал? Вырубилась она — пьяная в жопу. Я ей, — гордо произнёс Ромик, — две палки бросил без передыха — кайф! Давайте — вперед! А я, — говорит, — пойду потанцую». Зашли они, Ваня с Серегой, в комнату, и точно: спящая бикса лежит на кровати, ноги свои широко раздвинув, а рядом с кроватью, на полу, трусики ее скомканные валяются. «Ну, кто… кто первый? — шепчет Серега и сам себе отвечает: — Я! Я ее первый, а ты за мной… » А Ваня такой очередности — в смысле: последовательности — даже рад, поскольку Серега уже парень опытный, а для Вани все это в первый раз, и он, когда они в комнату вошли, даже немного оробел по причине первого раза. Да и как ему, Ване, не оробеть было, если до этого он всяких-разных бикс только в фантазиях своих, юным воображением творимых, любил, а теперь предстояло любить хоть и спящую по причине активного празднования Нового года, но, тем не менее, биксу живую… Это ведь, мой читатель, в жизни один раз бывает — первый раз, — как тут не заробеешь?»Да, — говорит Ваня Сереге, — ты первый давай, а я за тобой… » А в комнате, надо сказать, свет от настольной лампы горит. Серега тут же, нетерпеливым рывком брюки вниз с себя приспустив, аккурат на эту самую биксу улегся — и, зад свой голый чуть приподняв, рукой, сунутой под живот, не гладя направил — вставил Серега уверенно в письку пипиську, и — понеслась губерния в рай! А Ваня рядом стоит — и в ожидании очереди своей на это счастье, пока чужое, сверху смотрит, и то, что ему до этого звездного мига только грезилось, видит Ваня со всей отчетливостью в самую что ни на есть натуральную величину… А петушок Ванин, хотя и не видит еще ничего, поскольку на волю Ваней еще не выпущен, но тоже на всю катушку уже взволнован и пребывает, как дальнобойная артиллерия, в наиполнейшей боевой готовности — словно предчувствует, что после всех тренировок и упражнений, какие Ваня с ним регулярно проделывал, наконец-то ему, петушку, настало время себя проявить по-настоящему — в обстановке, что называется, боевой и в самом, если так выразиться, наипервейшем значении этого слова. Смотрит Ваня, не отрываясь… и, даже дыхание затаив, тискает Ваня через брюки совершенно непроизвольно петушка своего, в настоящий бой рвущегося… а Серега, на Ваню внимания никакого не обращая, биксу наяривает во всю мощь молодецких своих сил, и только жопа его колыхается аккурат перед Ваниными глазами. И здесь нужно отвлечься от Вани, через брюки сжимающего своего взволнованного пятнадцатилетнего петушка, и несколько слов сказать о Серегиной жопе.
Ах, мой читатель! Какой удивительной красоты и грации была эта часть Серегиного тела, и без того не лишенного некоторой приятности даже при чисто визуальном обзоре! Если Ване шестнадцать лет исполнялось только в феврале, то Сереге шестнадцать уже было, и был он, из сельской местности приехавший в город N в поисках знаний, парнем во всех отношениях замечательным. Был Серега коммуникабелен и в общении прост, был неизменно весел и, что встречается в наше пронизанное современностью время нечасто, как-то искренне и по-доброму щедр, а если учесть, что имел он вполне миловидную внешность и гармонично сложенную во всех отношениях фигуру, то можно без труда догадаться, что имел Серега успех у пола, по традиции еще называемого иногда слабым, неизменный успех, чем, осмотревшись немного, стал неизменно пользоваться, несмотря на свою только относительную взрослость. И хотя вся фигура юного Казановы была преисполнена мужской грации и красоты, особое место все-таки здесь занимала попа. Да-да, мой многоопытный или, наоборот, неискушенный читатель! Именно попа, потому что язык не поворачивается назвать это произведение искусства грубым словом «жопа» или аморфным и ничего не выражающим словом «задница».
И хотя мы понимаем, что слово «попа» больше подходит сопливым тинэйджерам предпубертатного возраста либо плывущим через штили и штормы по волнам жизни в поисках обетованной земли тайным и явным, но неизменно многочисленным представителям нетрадиционных наклонностей, тем не менее именно это слово — слово «попа» — за неимением подходящих других мы позволим себе употребить по отношению к Серегиному заду, хотя и Серега сам, и его зад из предпубертатного возраста уже вышли, а нетрадиционные наклонности и все связанные с этими наклонностями изыски их обоих, то есть Серёгу и его попу, кажется, совершенно не волновали… Итак, эта самая попа, да которой Ваня спустя три с половиной месяца губами во сне все-таки дотянулся и которую он, счастливый, поцеловал… Серегина попа была в меру кругла и в меру упитана, то есть чуть продолговата и в то же время упруга, но не упругой твердостью, а упругой пружинистой мягкостью, и в то же время, когда Серега шел по улице или по коридору, попа его не колыхалась вызывающе и безнадзорно, а с достоинством перекатывалась двумя элегантными полусферами, словно весело играя сама с собой под обтягивающими ее штанами-брюками, и при всем при этом Серегина попа была оттопырена, но оттопырена, что называется, в меру — неброско и не вызывающе, и это застенчивое достоинство, выраженное в юной грации округлённых линий, как магнитом, притягивало откровенные взгляды сокурсниц и, нужно думать, быстрые и внешне не заметные, но от этого не менее откровенные взгляды иных сокурсников. Да что говорить… Серегина попа — это было подлинное, в натуральную величину самое что ни на есть произведение искусства! С такой восхитительной попой Сереге нужно было бы выступать в специальном клубе, доставляя горячо жаждущим утонченной культурной жизни представителям новой интеллигенции незабываемое эстетическое наслаждение, или можно было бы — с такой восхитительной попой! — зарабатывать очень крутые бабки иноземного производства, позволяя любить свою юную попу новым хозяевам новой жизни, но, дав Сереге это сокровище, Создатель не дал ему должного кругозора, и потому, как ни печально это признать, видеть Серегину попу во всей своей обнаженной красе могли только сквозь клубы пара отдельные счастливчики в общежитской душевой да плохо побеленные потолки разнообразных общежитских комнат, в которых Серега, окучивая очередную биксу, торопливо проходил свои нехитрые университеты. И вот эта-то попа…
Эта самая попа и была в ту Новогоднюю ночь перед Ваниными глазами. С неукротимым задором юности колыхаясь вверх-вниз, это подлинное произведение искусства подмигивало Ване то и дело образующимися неглубокими ямочками, белые нежные полусферы то чуть сдвигались, то раздвигались, то сжимались, то разжимались… ах, до чего это было восхитительное зрелище! Нет-нет, Ваня, глядя на Серегину попу, совсем ничего такого не думал — чтобы конкретно и с явной голубизной… он любовался попой, её движением и ритмом совершенно бескорыстно, потирая через брюки рвущегося в настоящий бой своего горячего петушка, и когда Серега, как-то странно всхлипнув, вдруг неожиданно замер и, поднимаясь, посмотрел на Ваню посветлевшим бездонным взглядом, Ваня замирающим сердцем понял: пора!»Дырка уже разъебана… но ничего, еще можно. Давай!» — услышал Ваня напутствие своего более опытного друга и, Сереге невольно подражая, таким же точно решительным рывком приспустил штаны с себя. Ах, как сделалось вдруг у Вани на сердце тревожно и сладко! Ноги спящей Раисы, беспробудно уставшей на празднике жизни, были раздвинуты, гостеприимно разведены, и между ними Ваня увидел черный всклокоченный бугорок, звавший его в запредельные дали… Я буду скакать по холмам задремавшей Отчизны… — совершенно не к месту вдруг почему-то вспомнилась Ване прекрасная строчка прекрасного поэта, и он, то есть Ваня, продолжая невольно подражать своему закадычному другу Сереге, мешком повалился на всхрапывающую Раису.
..
И здесь случился с Ваней конфуз… нет-нет, ничего страшного не случилось — такое встречается сплошь и рядом по причине избыточного ожидания, и только очень непросвещенным молодым рыцарям начинает сразу казаться, что заминка у врат долгожданного рая, наконец-то для них открывшиеся и даже гостеприимно распахнувшиеся, имеет непреодолимое и по этой причине судьбоносное значение… всё, конечно, не так! — и тем не менее, это все-таки был конфуз. Подражая Сереге, а может быть, уже действуя инстинктивно самостоятельно, Ваня упал на Раису и, приподняв свою юную и хотя — в общем и целом — симпатичную, но вполне заурядную попку, тут же сунул между животами руку, чтоб показать своему петушку дорогу, ведущую к храму, как вдруг почувствовал, как там, между раздвинутыми Раисиными ногами, все мокро и скользко… и Ваня, вдруг передернувшись от невольно и внезапно охватившей его брезгливости, в недоумении замер, — Ване вдруг удивительным и даже непостижимым образом стало противно… «Ну, ты еби пока, жарь… а я еще кого-нибудь позову. Хватит тебе двадцать минут?» — вопросительным предложением уже деловито уточнил закадычный друг, по душевной своей доброте готовый сделать приятное всему миру. «Хватит», — не думая, отозвался Ваня, и не увидел, а услышал, как дверь за ним снаружи захлопнулась — в замочной скважине дважды проскрежетал ключ. Так вот, о конфузе… трудно сказать, что именно не понравилось петушку — то ли он вдруг вообразил, что для первого раза, для боевого крещения, мог бы Ваня выбрать поле сражения и поприличнее, то ли по молодости он почувствовал неуверенность в конкуренции с теми, кто уже вспахивал эти отнюдь не целинные земли, то ли он просто устал в пути своего ожидания, как устает преодолевший многие тяготы путник, изнеможенно падая, когда до желанной цели остается какой-то шаг, — словом, трудно сказать, что петушку не понравилось, а только он неожиданно сник, напрочь отказывая Ване в его искреннем стремлении овладеть прелестями посапывающей под ним беспробудной труженицы. Растерялся ли Ваня? Конечно, он растерялся. Да и кто бы не растерялся, когда долгожданная цель была под ним, а он ничего не мог сделать, — став на колени, Ваня на все лады поднимал петушка, встряхивал, тискал его и гладил, напоминая, как все получалось у них в ходе бесчисленных тренировок, и как они оба об этом мечтали — сотни раз, стоя под душем или лёжа в постели, стоя в туалете или сидя за письменным столом… нет, петушок не отзывался! Ваня хотел, а он не хотел — и, прикинувшись недееспособным, он глумливо болтался из стороны в сторону, тщетно потрясаемый Ваниными руками, торопливо пытающимися восстановить status quo, — все было тщетно. И Ваня… Ваня вдруг понял, что все напрасно — что сегодня, наверное, не его день. Хорошо, что труженица спала, — не ведая, какая драма разыгрывается над ней, Раиса посапывала, раздвинув ноги, и из ее полуоткрытого грота, поросшего редким диким кустарником, вытекала, сочась, животворящая влага Сереги, и влага Ромика, бывшего перед Серегой, и влага еще бог знает кого, кто был перед Ромиком, не посчитав себя вправе отказываться от удовольствия на этом веселом празднике жизни… бля, хорошо, что Сереги нет, — подумал Ваня, не без некоторого сожаления вставая с ложа, так и не сделавшего в эту прекрасную Новогоднюю ночь его, Ваню, мужчиной — не лишившего его девственности… и здесь, наверное, можно было бы смело сказать, что Ваня остался мальчиком, если бы слово «мальчик» не употреблялось одновременно в совершенно иных — веселых — контекстах. Остается только добавить, что Ваня успел встать вовремя, потому что в замочной скважине вдруг снова проскрежетал ключ, и Серега, приоткрыв дверь, просунул в комнату голову: «Ну, как ты здесь? Кончил?» «Кончил», — в ответ отозвался Ваня ложно бодрым голосом, стоя к Сереге задом — застегивая штаны. «Давай, заходи! На тебе ключ… отдашь его Ромику», — услышал Ваня Серегин голос и, повернувшись, увидел, как в комнату входит, сменяя его у станка наслаждений, очередной пилигрим, жаждущий то ли познания, то ли привычного совокупления.
..
Надо ли говорить, что первого января, уже дома, когда Ваня под вечер проснулся и пошел в душ, его петушок, как ни в чем ни бывало, тут же напомнил о себе, резво и уверенно выпрямившись во весь петушиный рост! Надо ли говорить, что Ваня, чуть изумленный таким коварством и такой наглостью, вгорячах обозвал петушка «пидарасом», для выражения пущего неудовольствия употребив это грубое простонародное слово, когда-то довольно популярное и чуть ли не единственное, обозначающее представителей альтернативных наклонностей, а ныне вытесненное на обочину жизни и употребляемое лишь полуграмотными и по этой причине сексуально неудовлетворенными агрессивными детьми пыльных городских окраин да еще в районах, безнадежно удаленных от магистральных путей цивилизации!»Пидарас!» — с чувством проговорил Ваня, глядя сверху вниз на задорно торчащего, как ни в чем ни бывало, своего петушка… но надо ли говорить, мой читатель, что, имея доброе сердце, Ваня не мог обижаться долго? И уже через пару минут они помирились, и Ваня, стоя под душем, опять ублажал петушка ладонью, привычно сжатой в горячий кулак, и когда подошло петушиное время, он, петушок, словно в знак благодарности за Ванину незлобивость выстрелил так жизнеутверждающе мощно, что Ванина сперма, фонтанируя, оказалась на кафельной стенке; впрочем, сперму свою Ваня с кафельной стенки тут же смыл, продолжая еще какое-то время по инерции думать о Серегиной попе, во всей своей безупречной красе беспечно и даже маняще обнажившейся перед его, Ваниными, глазами на празднике жизни — в студенческом общежитии, что расположено на улице Заря Демократии…
Надо ли еще говорить о Серегиной попе? Я думаю: надо. Собственно, о самой попе можно говорить еще и еще, с дикостью первобытного грека восхищаясь её неоспоримой грацией и элегантностью, но я еще несколько слов скажу не о попе как таковой, а о Ване, который после незабываемой встречи Нового года стал о попе Серёгиной думать… Нет-нет, остынь, нетерпеливый мой читатель, уже успевший привычно решить, что Ваня после того Новогоднего праздника определился в своих сексуальных пристрастиях и что пристрастия эти мгновенно приобрели неоспоримый голубой оттенок! Опять-таки все не так просто в нашей истории, то есть истории сказочной, и мы можем лишь позавидовать тем многочисленным авторам, которым посчастливилось поведать миру истории более простые и внятные, не замутненные неправдоподобно избыточной сказочностью главных и неглавных действующих лиц, как это происходит в истории нашей… Недавно мне посчастливилось прочитать такой с фотографической точностью запечатленный миг: «Женя с размаху вошел в Олега одним мощным толчком, и хотя член у Жени был двадцать пять сантиметра в длину, а для Олега это было впервые, оба они закричала от наслаждения, прокатившегося по их телам… » — и я, прочитав это, тут же подумал: вот она, правда жизни! Двадцать пять сантиметров! Двадцать пять — не больше и не меньше, и при этом — «для Олега это было впервые», но Олег… «оба они закричала от наслаждения, прокатившегося по их телам… «, — так Олег, поди, как сторона принимающая, кричал даже громче… громче кричал от наслаждения, прокатившегося по его телу! Ах, мой читатель, нам бы такой безоблачный случай — и Ваня, шестнадцатилетний студент технического колледжа, уже был бы счастлив, с чувством нарастающего неземного блаженства овладевая во всех отношениях прекрасной попой своего закадычного друга! А почему, собственно, нет — почему всего такого не могло бы случиться? Разве не мог бы Серёга, в череде своих побед-приключений над юными биксами из вполне здорового, не замутненного комплексами любопытства сделать шаг в сторону от магистрального своего направления, и — попробовать, скажем, с Ваней? Мог бы… конечно, мог бы! — в реальной жизни такое встречается сплошь и рядом! Так нет же, нет! — в нашей сказочной истории всё не так просто — не так, как у людей.
.. а впрочем, я вот о чем подумал: всё просто и быстро бывает в историях одиноких стареющих авторов, раз или два соприкоснувшихся на заре своей юности с голубой лунной любовью и потом упорно и много об этом думавших, — им, не сумевшим по жизни любви этой бесстрашно отдаться и ею упиться, невольно хочется снова и снова вспоминать, как всё это было когда-то, и как всё это было легко и просто… и еще всё легко и просто бывает у авторов юных, по простоте неокрепшей своей души искренне верящих, что так, собственно, оно и должно быть, как они это видят своим воспаленным горячим сердцем, одиноко тоскующим по любви, — им кажется, что у них, сочиняющих свои истории, еще всё впереди, и они, поправимо юные, с жаром воображают на своих бессонных мониторах, выдавая мечту за действительность, как всё это легко и просто у них когда-нибудь будет… и тогда мы в первом абзаце читаем о встрече двух неизменно красивых юношей, из второго абзаца мы узнает, что они уже все-всё друг про друга с первого взгляда поняли, в третьем абзаце каждый автор в меру своих художественных способностей с жаром описывает, как молодые люди сливаются, словно Платоновы половинки, в неизбежном соитии душ и тел, испытывая божественную незабываемую сладость от первого проникновения обязательно большого, фантастически большого фаллоса, а четвертый абзац — завершающий happy end, где оба героя реалистично счастливы, — мечта сбылась на бумаге либо на мониторе, и стало немного легче многострадальному сердцу… Ах, как хочется, хочется счастья… что скрывать! И для себя, и для героев своих историй, ибо эти герои, в сущности, мы и есть: одни — пишущие, другие — читающие… ну, а кто же еще? Конечно, мы — одинокие мечтатели, не лишенные некоторого воображения и потому жаждущие окунуться на какое-то время в короткие и внятные истории, где всё происходит с реалистичной лёгкостью и документальной быстротой… и разве не хочется мне поскорее увидеть счастливым Ваню? Разве не хочется мне хотя бы одним глазком побыстрее взглянуть-подсмотреть, как не во сне, а наяву юный симпатичный Ваня целует не менее симпатичную Серегину попу, и как оба они, бабник Серёга и девственник Ваня, при этом неисправимо счастливы? Хочется, мой читатель, еще как хочется… хочется в этой стремительно ускользающей жизни историй простых и внятных, бесконечно реалистичных, как сама жизнь! Но… если говорить честно, я даже ещё пока не знаю, будет ли Ваня ее, Серёгину попу, целовать… и будет ли он, этот Ваня, в обозримом будущем вообще кого-нибудь целовать, и если будет он целовать, то кого именно: девочку или мальчика… да и будет ли он вообще счастлив? У нас, мой читатель, сказка, и мы — ты и я — только следуем вслед за событиями, происходящими в городе N, и даже не в городе N, а в одной самой что ни на есть обычной семье, проживающей в этом самом что ни на есть сказочном городе, — мы только следуем за событиями, и всё, что от нас требуется — это терпение. Так вот, о попе…
Да, попа произвела на Ваню бодрящее впечатление, и уже первого января, стоя под душем, Ваня впервые воображал не какую-то безответную биксу или другую царевну своей мечты, а видел Ваня мысленно перед собой девственную Серегину попу, поразившую его своей содрогающейся красотой… все это было так, и слов, как известно, из песни не выбросишь. Но означало ли это, что Ваню, которому было пятнадцать лет и который являлся студентом первого курса технического колледжа, уже можно было назвать голубым? Ведь голубой — это часто не тот, кто активно или пассивно совершает разнообразные веселящие действия в нетрадиционном, если так выразиться, варианте, а голубой — это, как правило, тот, кто о подобных действиях прежде всего грезит, а будут ли эти действия в реальности совершены, это уже не суть важно… Так вот, если бы Ваня, находясь на празднике жизни в студенческом общежитии, совершил бы — активно или пассивно — какие-либо конкретные действия с нетрадиционным либо традиционным партнером, то есть, говоря то же самое по-другому, если бы Ваню, опьяненного новогодним вином свободы, в одной из комнат под грохот музыки Серега, его закадычный друг, или любой другой свободный от предрассудков юный студент технического колледжа натянул бы, радуясь жизни, в попу или дал бы Ване пососать петушка, что в студенческих общежитиях между парнями случается очень даже нередко, и если бы Ваня сам, точно так же радуясь жизни, совершил бы ответные аналогичные действия с закадычным другом своим Серегой или с другим альтернативным студентом, и вот, после всего этого праздника и альтернативного наслаждения, если бы мы спросили себя, голубой ли Ваня, то даже здесь — даже в этом случае — ответили бы на этот не лишенный бдительной прямоты вопрос сразу и даже ни на минуту не задумываясь: нет. Мы бы ответили однозначно «нет», поскольку мало ли чего не бывает на праздниках жизни, и в одночасье ставить диагноз и выносить вердикт могут разве что озабоченные своими собственными проблемами очень и очень недалекие люди. Но Ваня грезил! Стоя под душем, Ваня мысленно видел Серегину попу и, вновь тренируя под душем предателя-петушка, Ваня опять-таки воображал не какую-то бессловесную биксу, а во всех отношениях замечательную попу Сереги… и — что получается? Выходит, что Ваня все-таки грезил — заголубел? С точки зрения всякой там психологии вроде как надо ответить на этот коварный вопрос скорее утвердительно и положительно, чем отрицательно, и тем не менее мы снова скажем уверенно «нет», поскольку Ване хотя и рисовался достаточно специфический предмет, а именно: Серегина попа, но — Ваня с этим предметом, то есть с попой Сереги, ничего в своем возбужденном воображении не делал… Да-да, мой привыкший к скоропостижным выводам нетерпеливый читатель! Если тебе случалось быть в музее… сотни тысяч людей и даже миллионы ежедневно бродят по разным залам музеев мира и, замирая от удивления или восхищения, любуются прекрасными картинами и не менее прекрасными скульптурами, — но разве они, мой вдумчивый читатель, являются живописцами или ваятелями? Ваня только воображал попу Серёгину как красоту, охваченную толчкообразным движением, и совершенно не видел в ней удобный станок для совершения собственных толчкообразных действий нетрадиционного свойства. И этот утонченный и даже слегка психологический нюанс, который вряд ли способны увидеть наголо бреющие свои деформированные черепа дети унылых городских окраин, нам позволяет не торопиться в определении цвета Ваниной ориентации. Тем более, что потом были у Вани и другие грезы — с несомненными биксами, безропотно отдающимися ему в освещенных настольными лампами комнатах, и сны Ванины тоже были потом самого разного свойства — и с Серегиной попой, и без нее.
И вместе с тем, Ваня был нормальным живым человеком — ему было шестнадцать лет и он был студентом первого курса технического колледжа, и, как всякий нормальный молодой человек, живущий в эпоху информационной современности, Ваня не мог не знать о существовании в окружающей его жизни всяких нетрадиционных наклонностей и не мог не думать о возможности прикладного отношения к красоте. Но знания Вани о жизни ещё представляли собой гремучую смесь, и если бы папа и особенно мама не держали в последнее время сына Ваню в суровых рукавицах Николая Ивановича, о примечательности которого теперь не многие знают и который, к слову уж скажем, обладал как раз нетрадиционными наклонностями, то, возможно, Ваня уже и голову побрил бы — по причине дремучести некоторых своих знаний. Хотя, кто знает… Ваня жил почти в центре города и считался центровым, а детство всяких соколов проходило на унылых просторах пыльных городских окраин, и сердце наш Ваня имел любознательное и доброе, простодушно открытое всем цветам радуги, а дети окраин были агрессивны и злы, и поэтому вполне возможно, что рукавицы Николая Ивановича здесь ни при чем — Ваня и так не стал бы брить голову по причине врожденной брезгливости ко всякой исключительности, порождаемой комплексами неполноценности, но мама, привыкшая предохраняться, на всякий случай предохраняла и Ваню. И хотя умная мама старалась это делать незаметно и ненавязчиво, но Ваня в последнее время все равно замечал, что мама его предохраняет, и несколько раз по этому поводу с мамой даже ссорился… А что касается прикладного отношения к красоте, то Ваня, хотя об этом и думал, но как-то опять-таки абстрактно и даже в душе не без удивления, что такие мысли ему вообще приходят в голову применительно к самому себе. То есть тема эта — про голубых — была на слуху, и студенты технического колледжа даже любили на эту тему иногда позубоскалить, но всегда зубоскалили про других или вообще на тему и никогда, этой темой свой слух услаждая, ничего не говорили про себя лично. И Ваня, собственно, делал так же — и зубоскалил, и смеялся, как все другие юные студенты технического колледжа… да и разве мог он кому-нибудь рассказать о своих глупых нелепых снах?
И вот, проводив Ростика в школу, Ваня лежал со спущенными штанами и, слушая музыку бури и натиска, играл со своим петушком, попеременно думая то о Серегиной попе, то о всяких безымянных биксах, безмолвно ему отдающихся в освещенных настольными лампами комнатах весело живущего студенческого общежития… Долго Ваня играл своим петушком — даже замучил его немножко. И ведь как коварно он со своим петушком обращался! Только петушок соберется оросить Ванину руку, крепко его, петушка, сжимающую, а Ваня раз — и руку убрал. Ну, думает петушок, не сегодня, значит. И только он станет уже успокаиваться и даже боевую форму терять, как Ваня вновь его цап рукой — и снова давай тормошить да наяривать. И снова все повторяется: только петушок соберется сделать учебный выстрел, как снова Ваня его бросает. И даже несколько раз Ваня ему, петушку своему, создавал условия, приближенные к боевым. А именно: переворачивался Ваня на живот, наваливался на него, петушка своего и, подставляя ему ладони, лодочкой сложенные, заставлял его, сам совершая волнообразные движения, в эти ладони тыкаться и между ними скользить. И петушок даже в таких условиях готов был выстрел учебный произвести, но Ваня сделать это ему не давал: только он, петушок, изготовится, а Ваня раз — и снова на спину перевернулся, руки свои, лодочкой сложенные, мгновенно при этом убирая прочь. И от такого Ваниного коварства петушок уставать уже стал и даже вялый сделался и как бы сонный, и когда Ваня стал его в очередной раз тормошить, поднимая, он лишь приподнялся чуть-чуть, а в полную боевую стойку становиться не стал. И увидел Ваня, что он своего петушка вконец замучил, и решил он тогда над ним сжалиться — снял Ваня брюки свои совсем, лег поудобнее на спину, ноги в разные стороны, чуть разведя, расставил, как та уставшая на Новогоднем торжестве Раиса, и уже не стал заниматься коварством, а сделал все так, как положено. Но петушок в последний момент, помня о предварительном Ванином коварстве, Ване этому все равно отомстил: когда подошел самый-самый последний и для Вани сладкий момент, он, петушок, изловчился и плюнул с чувством на этого Ваню — прямо на Ванин сосок попал, хотя, если честно, попасть он хотел в полуоткрытый Ванин рот… Полежал Ваня немного, слушая музыку бури и натиска и одновременно отдыхая от долго длившейся игры со своим петушком, потом встал и в душ пошел — поплескался там от души, петушка своего любимого хорошенько помыл, а когда вышел из душа и, перед зеркалом в полный рост стоя, вытерся, глядя на свою очень даже ладную и по причине выхода из-под душа голую фигуру, оказалось, что уже полдня прошло, и вот-вот Ростик из школы должен вернуться.
Ваня суп, мамой сваренный, из большой кастрюли отлил немного в маленькую и в этой маленькой кастрюле на обед разогрел. А на второе быстренько отварил макароны и, сливочным маслом их сдобрив, разогрел к макаронам по две котлеты, мамой перед отъездом сжаренные. Вернулся Ростик — сели они обедать. Ростик Ваню во всем слушается — не перечит. Да и то сказать — Ваня остался за старшего. А только видит Ваня, что Ростик нет-нет да и посмотрит на его, на Ваню, с каким-то непонятным ему, Ване, любопытством-интересом, и снова… снова стали в Ванину душу разные мысли да всякие прочие сомнения закрадываться. А какие там мысли, если он, Ваня, ничего-ничего не знает? Так, одно смутное беспокойство… «Сам виноват, — думает Ваня про себя, — не нужно было ему разрешать ко мне в кровать ложиться. Теперь я умнее буду, — думает Ваня, — теперь я лечь ему ни за что не разрешу!»
Пообедали они, каждый думая о своем. Ростик уроки сел делать, а Ваня сел к зачету в тетрадь свою с тетради чужой конспекты списывать-переписывать, и каждый какое-то время был занят своим делом. Наконец, выучил Ростик уроки, подошел к Ване с тетрадкой открытой.
— Ну, чего тебе? — все еще чувствуя остатки недовольства собой, что разрешил Ростику к себе в постель лечь, спросил Ваня.
— Задачку проверь, правильно я сделал или нет.
Хотел Ваня сказать Ростику «отстань!», но потом вспомнил, что он все-таки за старшего остался, тетрадку нехотя взял. Стал Ваня проверять… и — ничего не понял.
— Так… — сказал Ваня, делая вид, что понимает и проверяет. — А с ответом сошлось? Есть в конце книжки ответ к задаче?
— Есть. Сошлось… — отозвался Ростик.
— Ну… все, правильно, — сказал Ваня, предварительно еще посмотрев некоторое время в тетрадку и тем самым окончательно делая вид, что он, старший брат, всё проверил. А чего ж неправильно, если в книжке в конце есть ответ, и у маленького Ростика всё сошлось…
— Вань, я уже все уроки сделал. Можно, я пойду теперь погуляю? — проговорил Ростик, стоя около Вани с тетрадкой. И таким он в этот момент показался Ване кротким, таким милым, родным и послушным, что Ваня даже хотел улыбнуться, но, вспомнив тут же, как Ростик еще недавно огорчал его своими дурацкими взглядами, улыбаться не стал, а спросил строго:
— Где ты будешь гулять?
— Здесь, рядом с домом. Мы на скамейке посидим…
— «Мы» — это кто? — еще строже спросил у Ростика Ваня, непроизвольно копируя маму.
— Рома из сорок шестой квартиры… и Димка еще, если мама его погулять отпустит, — с готовностью отозвался Ростик и, по-прежнему стоя около Вани с тетрадкой в руке, про Димку, которого мама может не отпустить, старшему брату пояснил: — Димка сегодня по географии получил «пару», поэтому его могут не отпустить.
— Да? А ты что сегодня получил? — Ваня вдруг подумал, что теперь, когда папы и мамы нет, ему нужно будет следить за отметками Ростика и, так подумав, тут же Ростику приказал: — Ну-ка, дневник покажи! Гулять он собрался…
Ростик, метнувшись к своему столу, через секунду предстал перед Ваней с раскрытым на нужной странице дневником.
— Вот… я «пять» получил по географии, и еще «пять» по русскому языку.
В дневнике красовались две «пятерки». Ваня увидел знакомую подпись рядом с оценкой по русскому.
— А русский у вас кто ведет? Кобра?
— Да, Наталья Ивановна, — подтвердил Ростик, ни капли не удивившись. Да и чего ему было удивляться, если Ваня еще в прошлом году ходил в эту же самую школу и, понятное дело, знал всех учителей наперечет, а у многих даже сам учился. Зато Ваня приятно удивился, и даже гордость на короткое время за Ростика, брата своего младшего, Ваня в душе почувствовал, потому что Ваня знал, что получить «пятерку» у Кобры было практически невозможно. Эти обдолбаные деепричастные обороты… с ними, с этими оборотами, Ваня разобраться так и не смог. А у Ростика — «пять»… надо же!
— Ну, хорошо, иди, — разрешил Ваня. — Но чтобы около дома был. Я потом выйду — проверю.
— Ладно! — Ростик, счастливый, выскочил из квартиры, хлопнув за собой дверью.
А Ваня… он ведь и правда проверил! Через час, переписав эти долбаные конспекты, он выглянул в окно и, Ростика у подъезда не обнаружив, вдруг почувствовал смутное беспокойство… конечно, в любое другое время ему даже в голову не пришло бы выглядывать в окно, чтоб увидеть Ростика, но теперь мамы и папы не было, и — как ни крути, а он был за старшего, — почувствовав беспокойство и мысленно обзывая маленького Ростика разными нелестными для него, для Ростика, словами, Ваня, тут же одевшись, спустился вниз и, не увидев «этого долбанного Ростика» во дворе, обошел вокруг дома. Оказалось, что Ростик сидел на скамейке за домом, и получалось, что от дома он никуда не отходил, — сказать Ване было нечего, а только приятно убедился Ваня, что Ростик его слушается. А убедившись в этом, Ваня Ростика на какой-то момент оставил, опять приказав, чтобы Ростик от дома ни на шаг не отходил, а сам поехал в общежитие к другу своему Сереге — во-первых, узнать, что сегодня в техническом колледже было, а во-вторых, отвезти и отдать тетрадку с конспектами, которые он переписал, и тетрадка ему, Ване, уже была не нужна. Оказалось, что в техническом колледже было все то же самое и ничего нового. Посидели они, Серега и Ваня, в Серегиной комнате, поговорили о всяких разностях, и Ваня поехал домой. И был уже вечер.
[/responsivevoice]
Category: Подростки