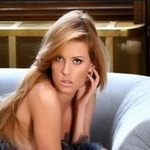Байки о любви История седьмая-1
[responsivevoice voice=»Russian Female» buttontext=»Слушать рассказ онлайн»]Байки о любви. История седьмая
Категории:
Традиционно
Экзекуция
В попку
По принуждению
Потеря девственности
Романтика
Подростки
Группа
Наблюдатели
Фантазии
Классика
Случай
Остальное
Студенты
Подчинение и унижение
ИСТОРИЯ СЕДЬМАЯ. Рассказывает Андрей:
— Многие спрашивают меня, откуда у меня такая экзотическая жена, кто она по национальности, где мы познакомились и т.д. Это — история долгая и совершенно невероятная. Мне до сих пор не верится, что она произошла со мной.
Расскажу все по порядку. В 20… году я попал в качестве туриста в город Каракас, столицу Венесуэлы. Я — бродяга по призванию, и все небольшие деньги, которые зарабатывал, тратил тогда на поездки по миру.
Каракас поразил меня своим соответствием пресловутому трюизму — «город контрастов». Нигде я не видел такой разницы между роскошью центральной части города и ужасающей нищетой трущоб.
Налюбовавшись красотами делового центра, я начал «внедряться» в потаенную часть города — туда, куда туристы обычно и не заглядывают. И потому, что эти маршруты не изложены в путеводителях, и потому, что страшновато. Я, однако, полагал себя вполне лихим мачо, повидавшим полмира, и ровным счетом ничего не боялся.
Очень скоро я поплатился за свое легкомыслие. Было это так: на одной из кривых улиц, забитых мусором и какашками, мне вдруг заломили руки, на голову набросили вонючий мешок — и куда-то поволокли. Я, хоть и жутко перепугался, справился с паникой и решил не сопротивляться. И правильно решил: меня не били, а только впихнули в какой-то подвал, сняли мешок с головы и оставили там. Все мои объяснения, что, мол, я «не компренде», привели только к длинным фразам по-испански и хриплому смеху — точь-в-точь как у злодеев в кино. Только эти злодеи были не киношные, а настоящие.
В этом я убедился очень скоро. Буквально через мгновение я услышал за дверью отчаянный женский голос — вперемешку с грубым смехом: несчастную куда-то тащили. Голоса прошли мимо двери и свернули куда-то в сторону. Я был слишком занят собственным положением для того, чтобы сочувствовать неизвестной; в самом деле — никто не знал, где я, и в лучшем случае мне, вероятно, предстояло пополнить ряды рабов на чьей-то плантации (так я представлял себе «темный мир» Венесуэлы). Однако голоса внезапно послышались с другой стороны комнаты. Обернувшись, я увидел источник звука: в стене было узкое горизонтальное окно с надтреснутым стеклом. Оно выходило в другую комнату. Заглянув туда, я увидел своих похитителей и девушку.
Похитители выглядели настоящими киношными злодеями: грязные, заросшие, черноглазые, с гадкими улыбками… Девушка, которую они втащили в комнату, была сказочно красива. Она была настоящей «дикой орхидеей» Латинской Америки: черные локоны, черные оливковые глаза, необыкновенной прелести лицо и фигура… ее красота больно ударила мне в сердце, потому что я сразу понял, что с ней собрались делать.
И не ошибся. Девушка кричала, но не панически, а скорее гневно-презрительно: даже в крике она сохраняла какую-то гордость и достоинство. Один из подонков наотмашь ударил ее, и она упала; другой подхватил ее и начал рвать с нее одежду. Очень скоро она оказалась полностью голой.
Сквозь стекло мне все было очень хорошо видно. Сердце мое разрывалось на части, но сделать я ничего не мог: я был один, а злодеев было четверо, к тому же я заметил на их поясах ножи. Никакими техниками боя я не владел; в конце концов я попробовал дверь, выходящую из своей комнаты — не столько для того, чтобы немедля спасать девушку, сколько для очистки совести. Дверь, конечно, была заперта, и я, тщательно осмотрев ее, вернулся к своей незавидной роли наблюдателя. Отчаянные голоса и крики, раздававшиеся из окошка, говорили о том, что там происходит нечто ужасное.
Так оно и было: бедняжку уже насиловали вовсю. От того, что я увидел, меня чуть не стошнило: тонкую, хрупкую девушку поставили раком, и один из бандитов трахал ее то ли в зад, то ли в киску, — а другой держал ее за волосы и пытался вставить свой член ей в рот. Она не хотела раскрывать губы, и бандиту пришлось несколько раз ударить ее. Двое других бандитов стояли на карачках рядом и мяли, тискали, облизывали ее тело, «доили» ее за свисающую грудь, звонко шлепали по заднице… На ягодицах ее я заметил кровь, и на лице тоже.
Очень скоро два бандита кончили — один за другим, с хрипом и выкриками; тогда двое других подняли девушку, поставили на ноги и стали насаживать ее сразу на два члена. Через минуту они трахали ее с двух сторон, щипая и шлепая несчастное тело везде, где успевали. Девушка вначале висела на них, как безвольная кукла, и взгляд ее был ужасен — в нем было такое унижение, что было страшно за ее рассудок, — но потом рот ее раскрылся, глаза расширились — секс против воли увлек ее, и тело непроизвольно задвигалось. Заметив это, два бандита закричали, захохотали и стали еще неистовее трахать ее. Вскоре кончили и они; отвалившись от девушки, они похлопали ее по голому телу и упали, отдуваясь, на лавку. Девушка стояла, поникшая, с опущенной головой, и глядела вниз; грудь ее вздымалась, рот был полуоткрыт, и бедра по инерции описывали круги — насильники возбудили ее, и ей, наверно, было гадко от самой себя. Мне даже страшно было представить, что творилось в ее душе; но я понимал, что главное для нее — остаться в живых, и молился, чтобы насильники не прирезали ее.
Тут в окошке появились две новых хари — я их раньше не видел. Один из них схватил девушку за плечо и потащил куда-то; я перебежал к другому концу окна и увидел стол, к которому они подталкивали ее. Она стояла, безвольно опустив голову; крики усилились, и несчастная, наконец, залезла на стол, причем у нее не получилось с первого раза, — и легла на спину, покорно позволив раздвинуть себе ноги.
Один из бандитов стал на колени и прильнул ртом к ее промежности, поросшей густым черным пухом. Девушка застонала, будто у нее болят зубы, крепко зажмурилась, заерзала на столе, и я понял, что она пытается абстрагироваться от наслаждения, которое испытывала против воли. Потом бандит встал, прикрепил что-то к своему члену и посыпал его белым порошком (я догадался, что это был наркотик), остальные засмеялись и закричали ему что-то; он что-то крикнул подельникам, засмеялся — и начал трахать пленницу, грубо насаживая ее за бедра. Лицо девушки исказилось, и я подумал, что ей очень больно, — но через секунду она громко застонала и начала «подмахивать» бандиту. Глаза ее зажмурились, пальцы сжимали мертвой хваткой стол… Бандиты одобрительно заулюлюкали; ритм нарастал, стоны усиливались — и перешли вдруг в истошный визг: девушка обхватила ногами бандита и забилась на столе, с силой насаживаясь на член насильника. Глаза ее были крепко закрыты, лицо было красным, даже багровым. Она билась и металась на столе, как от электрошока. Тут захрипел и бандит…
Потом он передал маленькую штучку со своего члена другому насильнику — я догадался, что это вибратор, — и все повторилось сначала, только на этот раз девушка кончила еще быстрее, и кричала еще громче – как от страшной, невыносимой пытки. Пальцы ее так крепко вцепились в стол, что побелели — их белизна выделялась на фоне раскрасневшегося тела; глаза она не открывала ни на миг — «как страус в песок», подумал я. В крике ее было такое звериное наслаждение и такая мука, что у меня потемнело в голове…
Ее насиловали еще долго; она кончила четыре или пять раз, исходя в криках и конвульсиях, а потом уже не реагировала ни на что, лежа пассивно, как тряпичная кукла. Наконец насильники устали. Девушке что-то крикнули; она не реагировала, и я подумал, что она потеряла сознание. Тогда ее грубо сдернули со стола — и она встала, шатаясь, как пьяная; бандиты поволокли ее к двери — и, прежде чем я успел отпрыгнуть от окна, дверь моей комнаты (или, точнее сказать, камеры) открылась — и девушку впихнули ко мне. Голая, окровавленная, вся в синяках, она стала, глядя перед собой мутными глазами, потом пошатнулась — и села прямо на грязный пол. Бандит показал мне на окно, что-то крикнул мне, заржал — и хлопнул дверью. Наверно, он сказал — «скоро то же самое будет и с тобой»…
Передо …мной сидело измученное, полумертвое существо; только теперь я по-настоящему разглядел, какой удивительной красотой лучилось ее лицо и тело. Даже поруганная, оплеванная, избитая, униженная, обезумевшая от наркотиков, оргазмов, страха и боли, она была так прекрасна, что я едва не заревел.
Я знал, что изнасилованные девушки часто накладывают на себя руки; мысль о смерти этого необыкновенного создания так потрясла меня, что я вскочил, подбежал к ней, обнял ее, стал гладить, ласкать, целовать ее, — и говорить ей, что она прекрасна, что все будет хорошо, что все позади. Говорил я, конечно, по-русски, не надеясь ни на какое понимание; я был в трансе, в прострации, мной владело только одно желание — перелить в девушку хоть каплю тепла, хоть немного залечить страшное ее потрясение, чтобы она не наложила на себя руки. Мысль об ее самоубийстве (довольно нелепая, надо сказать, в наших обстоятельствах) не покидала меня, — и я, как безумный, страстно внушал девушке любовь к жизни на неизвестном ей языке, — и ласкал, ласкал ее, как не ласкал еще никого. Я облизывал ее, прижимал к себе, нежно целовал ей глаза, гладил по всему телу…
Вначале она не реагировала; но очень скоро я почувствовал ответный «ток» — слабый, но ощутимый. Она была удивлена, конечно, — но удивление сменялось благодарностью за ласку, и она стала отвечать мне: ловила мои руки, поглаживала меня, потом — прижалась поближе ко мне, еще ближе, еще, и наконец — уткнулась мне под мышку, как котенок, и бурно разревелась. Она ожила, вышла из своего полумертвого оцепенения, — и я почувствовал, что слезы лечат ее, что психика ее вне опасности…
Я не знаю, как описать то, что я чувствовал — все происходило на каком-то бессловесном уровне; между нами сразу возник контакт, который дал возможность понимать друг друга без слов. Она не понимала, конечно, того, что я говорил ей, — но интонация моей речи проникла в нее, и она, как я чувствовал, поняла меня. Она ревела — не так, как плачут взрослые женщины, а как маленькая девочка, которую обидели и побили, — тыкалась мне лицом в грудь, как котенок, и что-то говорила мне, по-испански, разумеется. Я не понимал ни слова, но чувствовал, что она оправдывается: дескать, я совсем не распутная… Я изо всех сил старался внушить ей, что понимаю ее и верю ей, — и она благодарно жалась ко мне. Она дрожала — и от потрясения, и от холода: в камере было сыро, а она была совершенно голая. Я снял с себя куртку, футболку — и одел на нее, оставшись сам в шортах и майке. Футболка моя прикрыла ее чуть ниже лобка…
Я кутал ее в свою куртку — и снова прижимал к себе, целуя в макушку, перебирая ее потрясающие локоны и поглаживая по голой попе, липкой от спермы и от выделений. Все это время член мой находился во взрывоопасном состоянии; изнасилование, несмотря ни на что, возбудило меня до дрожи, а близость обнаженной красавицы, которую я ласкал нежно, как никого и никогда раньше, довела меня «до кондиции» — и, сжав прильнувший ко мне комочек, уткнувшись в пушистые волосы, я только слегка помял свой член сквозь брюки — и он лопнул, разорвался горько-сладким фонтаном…
Минут десять или больше мы сидели молча, прижавшись друг к другу. Молчание, как часто бывает, обратило мое внимание на звуки, ранее незаметные.
И тут — произошло Чудо. Иначе я просто не могу это назвать… Я вдруг услышал шум проезжавшей машины, — и донесся он из-за угла, заставленного грязными ящиками. Камера наша находилась в подвале, — об этом говорило и отсутствие окон на улицу, и сырость, и то, что звук донесся как бы сверху… Внезапно во мне возникла неопределенная надежда, и я, отстранив девушку, встал и подошел к тому углу. Ничего особенного я там не увидел; и однако же — «для очистки совести» решил отодвинуть один из ящиков. И увидел… лестницу. Вертикальную лестницу вроде пожарной.
Я принялся отодвигать ящики, стараясь действовать быстро и бесшумно. Девушка перестала всхлипывать, что-то спросила, поднялась, подошла — и стала хвататься за ящики, больше путаясь и суетясь, чем помогая; скоро мы освободили угол от ящиков, и я смог залезть на лестницу.
Она упиралась в деревянный люк. Надежды не было никакой, — и все-таки я залез и попробовал поднять его… Люк поддался! Он был тяжелый, — но не был заперт! Я залез еще выше и, думая о том, что, конечно же, мы вылезем через него в такую же закрытую камеру, как наша, поднатужился — и отодвинул его. Затаив дыхание, я поднялся, высунул голову — и едва удержался от вскрика: комнату, куда я высунулся, освещал дневной свет, который лился из пролома в стене. Через него можно было выбраться наружу!
Я спрыгнул обратно, подсадил девушку, рассмотрев снизу ее окровавленную киску… и через минуту мы бежали по пустынной улице — подальше от проклятого места! Я не верил в то, что произошло: целым и невредимым выбраться из жуткого переплета, да еще и спасти Орхидею (так я назвал ее про себя) — это не укладывалось в голове.
Все время я крепко держал ее за руку. Она была босая, и бежать ей было трудно; кроме того, она страшно устала — и, когда мы остановились, Орхидея покачнулась и упала на меня. Я едва успел удержать ее. Моя футболка едва прикрывала ей интимные места, и пушистый лобок то и дело выглядывал из-под ее края; так, конечно, по городу нельзя было идти, — и я снял с нее куртку и повязал ее вокруг бедер девушки, стараясь прикрыть всю «срамоту». В таком виде Орхидея выглядела более-менее прилично, если не считать крови на лице и босых ног. Я вытер изнанкой куртки все пятна крови с ее лица, и мы пошли, куда глаза глядят.
Я уже давно понял, что заблудился, — и Орхидея тоже оглядывалась по сторонам растерянно, явно не зная, куда идти. Тогда я прибегнул к испытанному туристическому методу: прислушался — и пошел на гул машин. Метод оправдался: попетляв еще минут двадцать, мы вышли к транспортной артерии. Бандиты забрали у меня сумку с деньгами и фотокамерой, но немного денег у меня было в потайном кармане куртки — и вскоре я остановил такси.
…В гостинице возникла проблема, как провести Орхидею к себе в номер — бросить ее я, конечно, не мог. Но все прошло благополучно: я оставил ее в сторонке, пока ходил в «recepcion» за ключами, — а потом на нас никто не обратил внимания. Видно, турист, ведущий в номер сомнительного вида девочку – это обычная картина для местных гостиниц.
Когда входная дверь захлопнулась и мы оказались в номере, я вдруг осознал, что все позади… глубоко вздохнул — и крепко обнял Орхидею. Она тоже вздохнула, обняла меня, забормотала что-то — и повисла на мне без сил.
Я, хоть и сам был разбитый, как после битья, изловчился — взял ее на руки и отнес к постели. Она говорила мне что-то — язык ее заплетался, взгляд снова помутнел; у меня, как на грех, не было ни капли спиртного и ни крошки еды. Я включил воду, чтобы наполнить ванну, вошел снова к Орхидее — и увидел, что она спит.
Проспала она четырнадцать часов. За это время я успел накупить еды, женской одежды («на глаз») некоторых лекарств, которые могли понадобиться ей, — просидеть около нее несколько часов и, наконец, заснуть рядом. Сидя возле нее, я легонько поглаживал ее по руке и волосам; на личике ее заиграла улыбка — и она прижалась ко мне, обхватив меня руками… Я подумал о том, что ей снятся хорошие сны, и что это удивительно. Вскоре заснул и я.
Я не буду подробно пересказывать, как она проснулась: увидела себя — полуголую, грязную и липкую, — все вспомнила, заплакала… как я ее утешал; как она звонила своим родным, не могла дозвониться — и снова плакала; как мы общались, не понимая ни слова — и удивительным образом находили общий язык…
Голос у нее был хриплый, низкий, как почти у всех латинок, а глаза — удивительно чистые, наивные и отчаянные; тело ее было в самом расцвете зрелости, — и я никак не мог сообразить, сколько ей лет. Наконец я решил, что ей лет 25 — с более юными годами ее низкий …голос и роскошная грудь никак не вязались в моем сознании, хоть я и знал, что на юге женщины созревают быстрее.
От ее плача и всего вместе мне стало казаться, что ситуация безвыходна; я взял себя в руки — и заставил свой мозг осознать, что мы оба живы, почти невредимы, и что это — Чудо, и все остальное совершенно неважно… и что сейчас главное — вымыть ее и накормить.
Я заставил ее поесть и выпить, заново наполнил ванну — и позвал Орхидею мыться. Мне пришлось привести ее за талию — она не сопротивлялась, доверяя мне, но не понимала, чего я хочу. Заведя ее в ванну, я показал ей чистую одежду, купленную для нее, показал мочалку, мыло — и собрался было выходить. Я не чувствовал себя вправе глазеть на ее наготу ТЕПЕРЬ; кроме того, я боялся травмировать ее психику… но она придержала меня и что-то сказала. Голос ее был просительный, недоуменный, — и я понял, что она сказала «ты куда?» или «не уходи»…
Внутри у меня защекотало. Орхидея, оглянувшись на меня, сняла с пояса куртку, потом — стянула мою футболку, оставшись совершенно голой — такой, какой она была в момент нашего знакомства. Тут я понял, как был глуп — нагота теперь была естественным атрибутом нашего знакомства, символом ее доверия ко мне; я погладил Орхидею по голове и плечам, — и помог ей забраться в ванну.
…Я мыл ее час или два, с невероятным наслаждением вымывая каждую клеточку ее умопомрачительного тела. Груди ее были большие, не меньше четвертого размера, но изящные, тугие, с темными точеными сосочками; они были пухлыми и нежными, как тельца ангелочков на старинных картинах. Бедра – покатые, крутые, перетекавшие в талию так изящно, что изгиб ее фигуры казался колдовством. Лобок и киска ее не знали бритвы: там рос такой густой и темный пух, что ее гениталии выделялись крупным черным пятном; я привык считать такие заросли неряшливостью, но в «джунглях» Орхидеи была такая стихийная, первобытная красота и женственность, что я просто не мог представить ее с выбритой киской. Кроме того, сама киска ее была темной, почти лиловой. Орхидея сидела в хлопьях пены, вытягивая мне руки и ноги; потом — я поднял ее, заставил раздвинуть ножки — и тщательно вымывал ей попку, киску, внутреннюю поверхность бедер… Я мыл ее нежно, стараясь очистить эти поруганные уголки от реальной и воображаемой грязи, «вылечить» их, — и она чувствовала это, смущенно и благодарно говоря мне что-то.
Оба мы болтали не переставая, каждый на своем языке, — пытались разъяснить друг другу значения слов, смеялись, когда не понимали друг друга… Разумеется, член мой стоял таким колом, что я просто не знал, куда деваться. Я понимал, что предлагать Орхидее секс после всего, что произошло – гадко, отвратительно: она может на всю жизнь запомнить, что все мужчины — грубые самцы, и ничего больше. Кроме того, и киска, и попка ее потрескались и воспалились. Ей было больно даже, когда я мыл ее нежнейней губкой; что уж говорить про секс! Поэтому я решил уединиться в туалете.
Ситуация, однако, обернулась совершенно неожиданно: Орхидея вдруг взяла меня за член, торчащий под шортами, как кран, — посмотрела на меня и спросила что-то. Я не понял ее; она улыбнулась — и потянула с меня плавки. Я, ошарашенный, не сопротивлялся, конечно — и, когда остался голый, Орхидея посмотрела на меня, что-то сказала, как бы оправдываясь, — нагнулась и поцеловала мне член. Нежно-нежно — как ребенка.
Она была явно неопытна; скорей всего, это был первый в ее жизни минет (не считая вчерашнего насилия). Она не столько сосала член, сколько целовала его — по-детски нежно и скользяще; она увлеклась, обхватила пальцами мои яйца, взяла все «хозяйство» в горсть и игралась с ним, пылко целуя и вылизывая все сверху донизу.
Этот «неправильный минет» был волшебнее всех «правильных», вместе взятых. Я стоял, подставляясь ей, — а она выгнулась голая, вся в мыльной пене, мокрая, теплая, блестящая, — и вылизывала мне самое чувствительное место на моем теле, вкладывая в ласки всю свою благодарность. Она гладила мне яйца, попу — и мне казалось, что у меня между ног расцветает сказочная орхидея, наливается, набухает невыносимой сладостью…
Когда пришло время того, что нельзя описать, я забрызгал ей все лицо и волосы: она не взяла член в рот, когда он плевался спермой, а только лизала его, фыркала и смеялась, с интересом наблюдая за моим оргазмом. Такая неопытность вдруг умилила меня до крайности, и я расцеловал милое забрызганное личико, — и потом долго, с наслаждением мыл ей голову, перебирая мыльные пряди, зарываясь в них, массируя ей кожу на голове… Долгожданный оргазм переполнил меня истомой; не боясь уже ничего, я залез голышом к ней в ванну. Она засмеялась от радости — и мы терлись, лизались и ласкались, как маленькие дети. Если б мне раньше сказали, что возможна такая близость без знания языка — я б рассмеялся в ответ. Мы обращались друг к другу без стеснения, каждый на своем языке, — и каким-то чудом понимали друг друга. Не всегда с первого раза — но тем не менее…
В истоме ласк, горячей воды, пара и мыльных хлопьев пролетело Бог знает сколько времени. Наконец мы вытерли друг дружку, я отвел Орхидею на кровать, уложил ее, заставил раздвинуть ножки — и тщательно вымазал лечебным кремом ее писю и анус. Она морщилась и кряхтела — ей было больно; не в силах удержаться, я поцеловал розовый бутончик — нежно, чтоб не причинить боли, — и обцеловал внутреннюю поверхность бедер, на одной ножке и на другой… После этого все мыслимые преграды отпали — Орхидея блаженно заскулила, запустила пальцы мне в волосы и прижала к своему телу. Минуту или две я вжимался в ее горячее, распаренное бедро, и ноздри мне щекотал пушок ее лобка. Это был момент полного растворения друг в друге… Думать об этом было невыносимо больно, ибо близилось наше прощание.
Заставив себя оторваться от Орхидеи, я объяснил ей, что у меня самолет через 4 часа, и что я должен проводить ее. Она поняла. Остаток времени мы провели молча, без ласк — чтобы не растравлять друг друга. Все было ясно без слов, и даже без прикосновений; мы поели, потом она еще раз попробовала дозвониться родным, не смогла… мы вышли, сели в такси, Орхидея назвала адрес…
Я ехал в каком-то ступоре. Ничего, кроме мысли о расставании — сейчас, скоро, совсем скоро, — у меня в голове не было. Любовь отшибла во мне все остатки здравого смысла… Приехали, вышли; она пошла было к маленькому чистому домику, остановилась вдруг в нерешительности, посмотрела на меня… и мы сами не поняли, как очутились в объятиях. Мы обнимались неистово, отчаянно, и не целовались, а вжимались лицами друг в друга…
Наконец я ослабил объятия — меня будто подталкивал какой-то черт, ускоряющий разлуку, — она пошла было к дому… «адресс! адресс!..» — вдруг закричала она — и снова ринулась ко мне. Меня как током ударило, — ну конечно! Я выдрал дрожащими руками листик из блокнота и написал ей свой московский адрес. Она взяла его, посмотрела на меня – пронзительно, отчаянно, как не смотрел еще никто… я выдержал этот взгляд ровно две секунды, после чего дьявол развернул меня — и я прыгнул в такси, думая о том, что секунду назад видел свою любовь в последний раз.
«Расставанье — маленькая смерть». Я настолько одурел от любви, что не догадался записать вместе с адресом ни телефона, ни мэйла, ни даже своего имени! Более того, — я не знал ни имени своей возлюбленной, ни ее адреса. Она так и осталась для меня Орхидеей — цветом, который сорвали и растоптали, а я старался высадить обратно — чтобы он принялся и цвел еще много-много лет…
Следующие полтора года своей жизни я сгорал от любви к Орхидее и от ненависти к себе. Я перерыл интернет, замучив поисковики всеми возможными вариантами «chica venezuela»; я выучил наизусть всех виртуальных красавиц Каракаса; я забросил работу, плюнул на опрятность и комфорт, начал пить… Я не мог понять: что же заставило меня упустить все концы своей любви? И — топил …свое непонимание в текиле и портвейне.
Прошло полтора года. Однажды — обыкновенным вечером, будничным, тоскливым — раздался звонок в дверь… Не буду врать, будто я «сразу почувствовал, кто это», как обычно пишут — нет, я был убежден, что это соседка Галя, председатель домкома, горит желанием рассказать мне о повестке дня… Решив выместить на ней злобу, я подошел к двери, глянул в глазок… спросил — «кто?» Думая, открывать или нет, все-таки открыл. И — остолбенел…
Вначале мы смотрели друг на друга. Минуту или больше. Потом Орхидея сказала мне: «здравствуй!» По-русски… И потом: «ти помнить миня?» Тоже по-русски, хоть и с сильным акцентом…
Пересказывать такие сцены — совершенно бесполезное дело: невозможно описать все взгляды, междометия, топтания, идиотские вопросы, улыбки, а главное — то чувство подарка, сказочного, незаслуженного счастья, которому не веришь — и оно все равно переполняет тебя до ушей… Орхидея сидела у меня на диване; я держал ее за руку, даже не предложив ей раздеться, и глядел на нее, а она — на меня. Мне было невыносимо стыдно за свою квартиру, за бардак, за ряды пустых бутылок, за свой вид… Орхидея смеялась, краснела, хрипло говорила, запиналась и снова говорила:
— Я приехаль к тибе… Я… я очень сильно грустнай без тибя. Я думай: если у тибя есть женщина, я… я просто сказать спасибо тибе, и посмотреть на тибя… и чуть-чуть вспомнить. И уехай в Каракас. А если нет женщина…
На меня глядели такие влюбленные и отчаянные глаза, что во мне все завертелось… Через минуту мы истерически целовались, глодали и обсасывали губами друг друга; Орхидея только шептала, задыхаясь между поцелуями:
— Нет другой женщина? Нет?..
И когда я сказал — «нет…», — прямо-таки застонала, верней сказать — «завизжала», — и впилась в меня, восторженно бодаясь пухлой грудью…
Оказывается, это отчаянное существо сразу после моего отъезда принялось учить русский язык, устроилось на работу — «ти не думий что я плохо, это биль хоросший работа, только бумага, без плохо!..» — и, когда окончило школу и накопило денег на поездку — рвануло ко мне. Все это время Орхидея жила своей мечтой: «я стукаю к тибе, ти открыть двер, и я говорю тибе — здравствуй, ти помнить миня? А ти мне вот так…» (далее следовали ласки, от которых я взвивался под потолок). Ничего, кроме моего адреса, у нее не было; денег — едва хватало на обратный билет… Оказалось, что ей было всего 19 лет, а когда я познакомился с ней — соответственно, не было и 18-ти. Звали ее Рената…
…Ласки наши быстро переросли в стриптиз — и вот я уже всасываю, смокчу, облизываю ее соски, которые тогда только мылил губкой, — и которые столько снились мне! О начале первого нашего совокупления мне стыдно вспомнить — я настолько обалдел от всего, что кончил в Ренату, не успев войти в нее. Она ждала чего-то необыкновенного, ждала секса, как чуда, — но… восторг, переполнявший меня, вдруг закипел, перелился через край — и я ухнул в радужную бездну, всаживаясь всем хозяйством в обожаемую плоть, и только хрипел и урчал, умирая от вкусности между ног и от стыда… Рената даже не поняла, что произошло, — только выжидательно глядела на меня своими распахнутыми глазами; я понимал, что значил для нее этот секс — ведь это был, наверно, первый ее раз после того дня (так оно и оказалось), первый секс с любимым… и тогда я решил залить ее блаженством! Я решил утопить ее в оргазмах! Я призвал все свои знания, весь свой опыт — и примостился ртом у ее киски; Рената удивилась, но я лизнул ее пару раз, и удивление сменилось блаженным стоном. Подумав еще раз о том, что она совсем неопытна, я влился языком в ее бутончик. Он был горько-соленым от соков и от моей спермы…
Рената стонала, потом — хрипела, выла, урчала — и, наконец, кончила с воплями, наполнив мне рот фонтаном своего семени. Оно стекало по мне, как когда-то — моя сперма по ее лицу. Глаза ее были широкими, как блюдца, и безмерно удивленными; когда конвульсии стали отпускать ее — в них расцвела улыбка, тоже удивленная — и счастливая, будто Рената узнала что-то удивительное… Ободренный, я поклялся «кончить» ее еще не менее трех раз; обняв ее и зацеловав в затылок и ушки, я шепнул — «тебе понравилось?» «О, si-i-i… да-а-а-а-а!!!» — блаженно и благодарно выдохнула она, сбившись на испанский. «Это только начало» — пообещал я — и, почувствовав, что член снова «готов», принялся «обрабатывать» Ренату так, как меня научили ночи моей бурной юности…
Самое удивительное, что нежная Рената впоследствии высказала явную склонность к грубому, неистовому, «животному» сексу, и даже — к мазохизму, к игре в господина и рабыню. Я понимал, что таким удивительным образом трансформировались тайные, запретные впечатления от изнасилования, — когда ее пустили по рукам, били и она изошла в мучительных оргазмах, — но никогда не говорил с ней об этом. Однажды она призналась мне, что насильники лишили ее девственности, и раньше она не знала, что такое секс. Было это так: ее домогался один парень из трущобной пацанвы — звали его Антонио; Рената немного пофлиртовала с ним, но потом дала резкий отпор. Обозлившись, Антонио подговорил знакомую банду…
Какая судьба ждала меня — так и осталось неизвестным. К счастью. А еще Рената сказала мне удивительную вещь:
— Я говорить «спасибо» этому Антонио. Он сделаль так что я узналь тибя…
[/responsivevoice]
Category: Случай